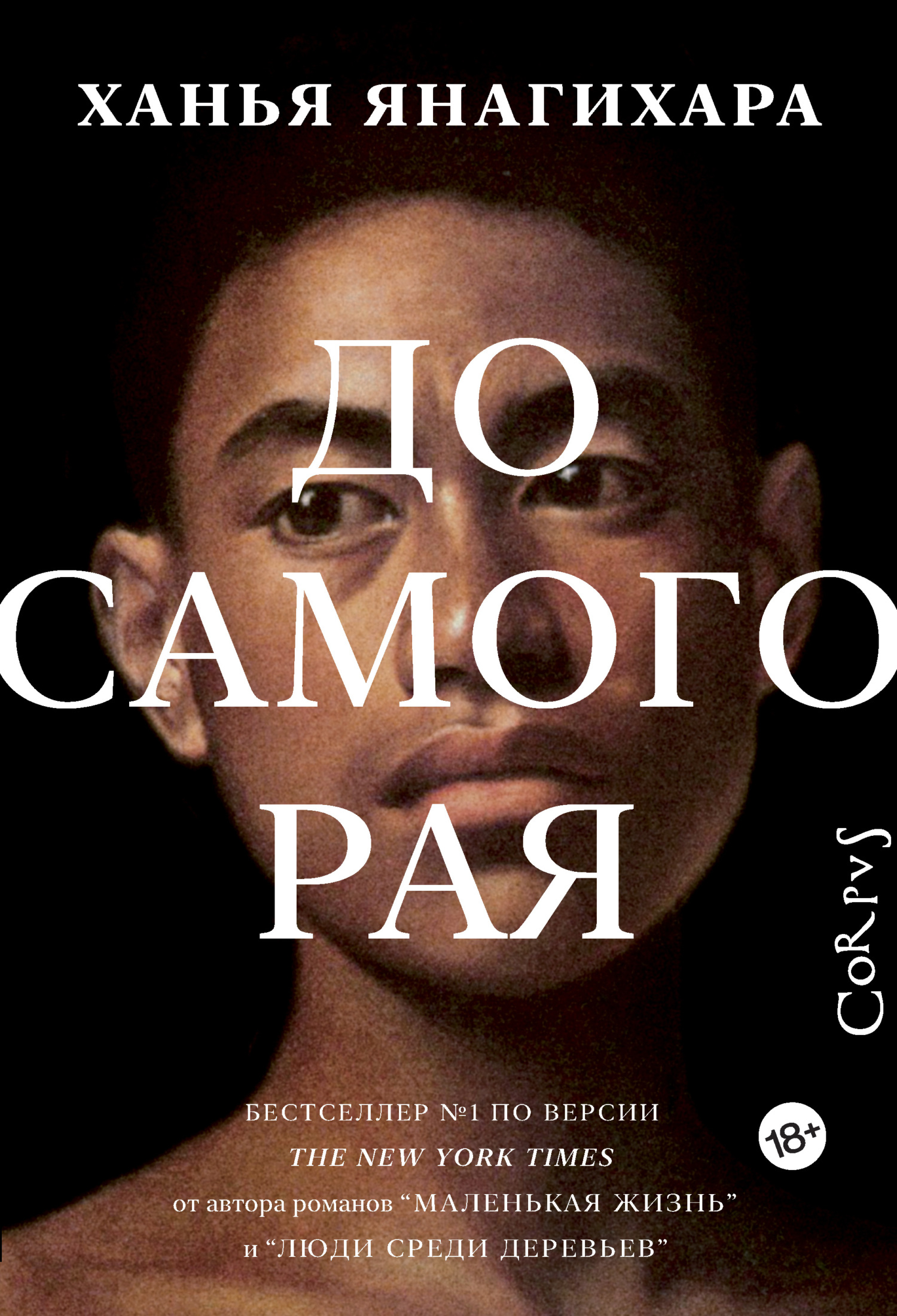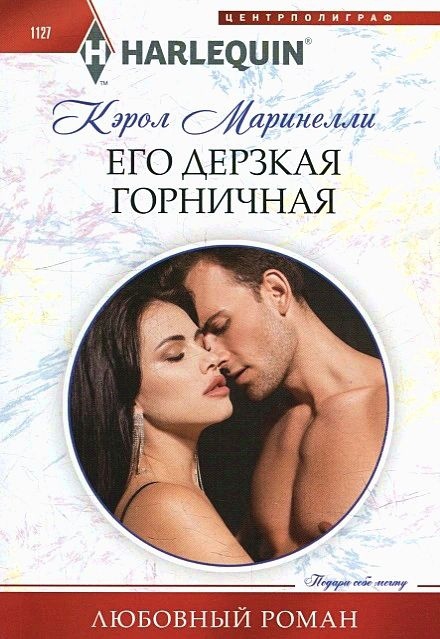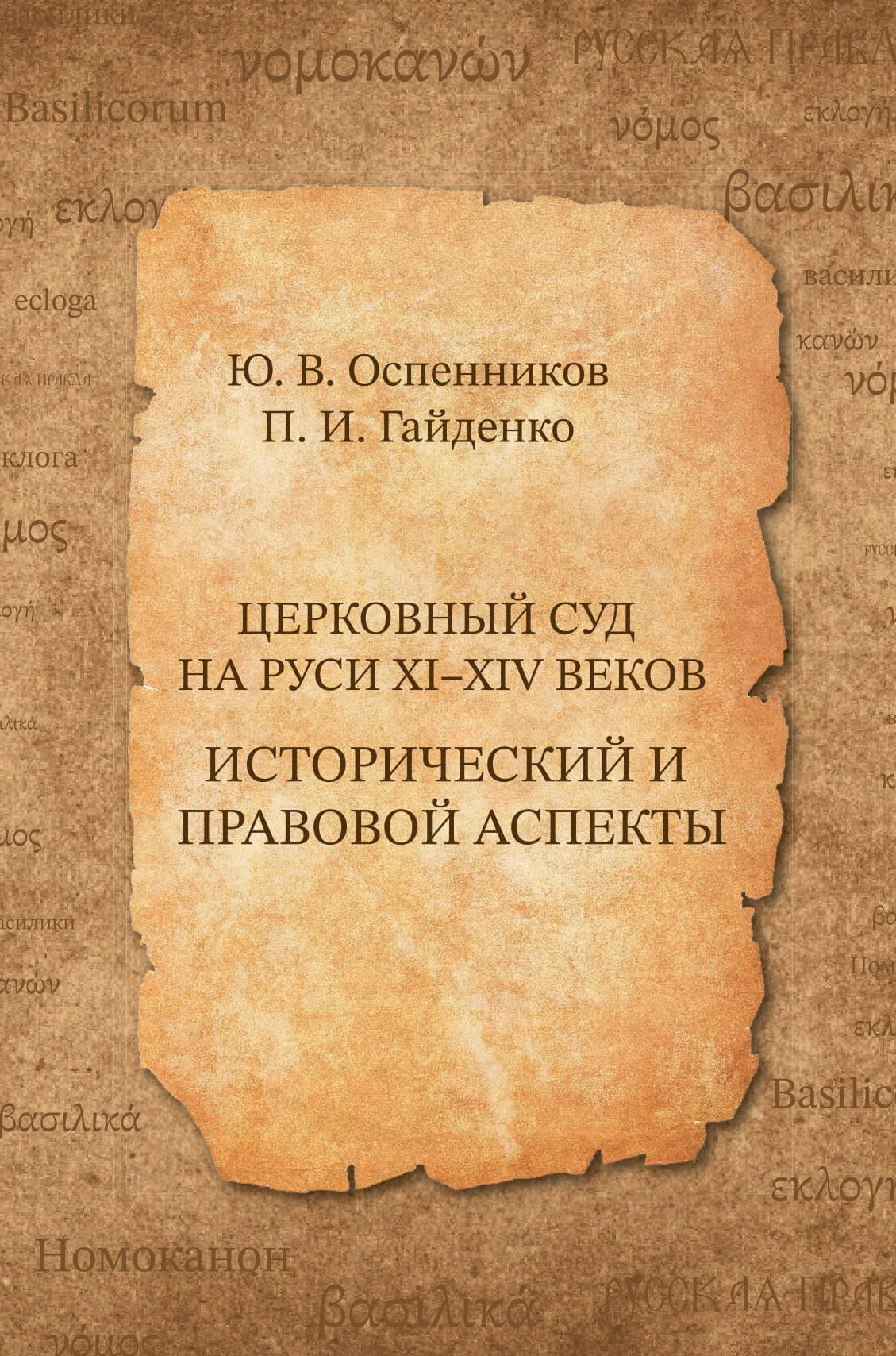Шрифт:
Закладка:
До самого рая - это психологический роман от японско-американской писательницы Ханьи Янагихары, которая стала известной благодаря своему бестселлеру Маленькая жизнь. В этой книге она рассказывает о жизни и смерти, о любви и ненависти, о вине и прощении.
Главный герой романа - Дэвид Зиглер - знаменитый ученый, который занимается изучением рака. Он живет в Нью-Йорке со своей женой Розали и своим сыном Джудом. Он считается одним из лучших в своей области и имеет много почитателей и врагов. Он также имеет много тайн, которые он скрывает от всех, даже от себя.
Одна из таких тайн - его давняя связь с Эдди, молодым мужчиной, который работает в его лаборатории. Дэвид и Эдди любят друг друга, но не могут быть вместе из-за разницы в возрасте, положении и обстоятельствах. Они встречаются тайно и стараются не думать о будущем.
Но однажды все меняется. Дэвид узнает, что у него рак и что у него осталось несколько месяцев жизни. Он решает уехать на Гавайи, где он родился и вырос, чтобы провести свои последние дни в спокойствии и красоте. Он приглашает с собой Эдди, чтобы быть с ним до конца. Он также приглашает свою жену и сына, чтобы попрощаться с ними и попытаться загладить свою вину.
До самого рая - это роман, который не оставит вас равнодушными. Это роман, который заставит вас задуматься о смысле жизни и смерти, о том, что действительно важно для человека и что делает его счастливым. Это роман, который покажет вам, что любовь может быть как благословением, так и проклятием, а рай может быть как на земле, так и в аду. Читайте книгу онлайн на сайте knizhkionline.com и дойдите до самого рая.