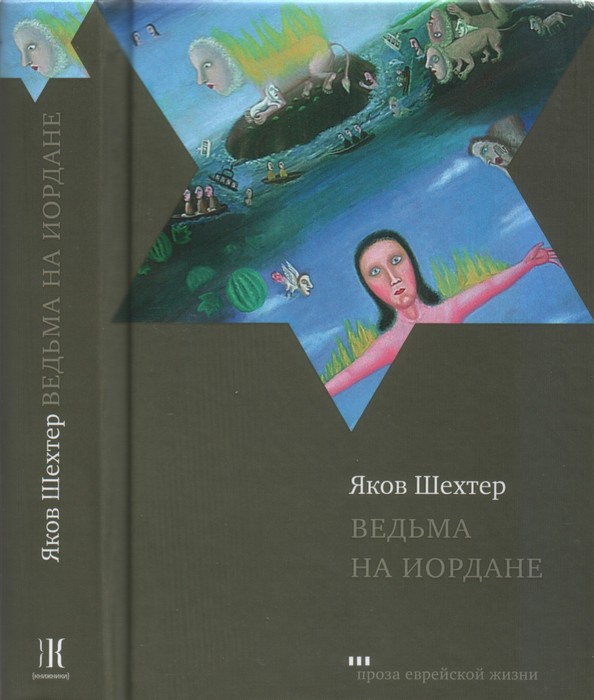Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В книгу известного украинского писателя Якова Баша вошли неразрывно связанные между собой романы «Надежда» и «На крутой дороге». Они рассказывают о героическом труде запорожских металлургов в суровую пору Великой Отечественной войны. Лейтмотив произведений — дружба советских народов, единство фронта и тыла. Героизму советских людей в борьбе с немецкими оккупантами посвящена повесть «Профессор Буйко».
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Яков Васильевич Баш»: