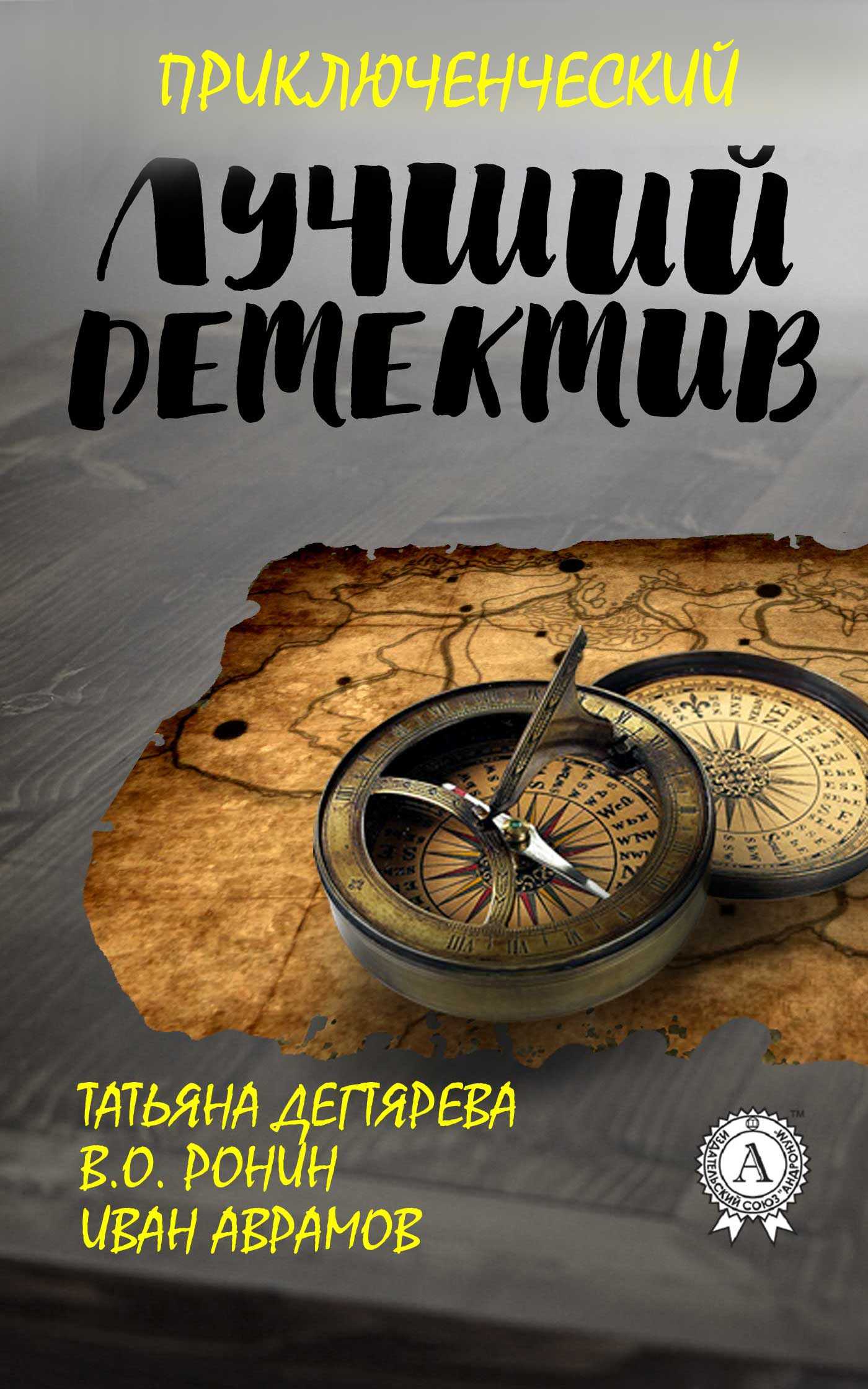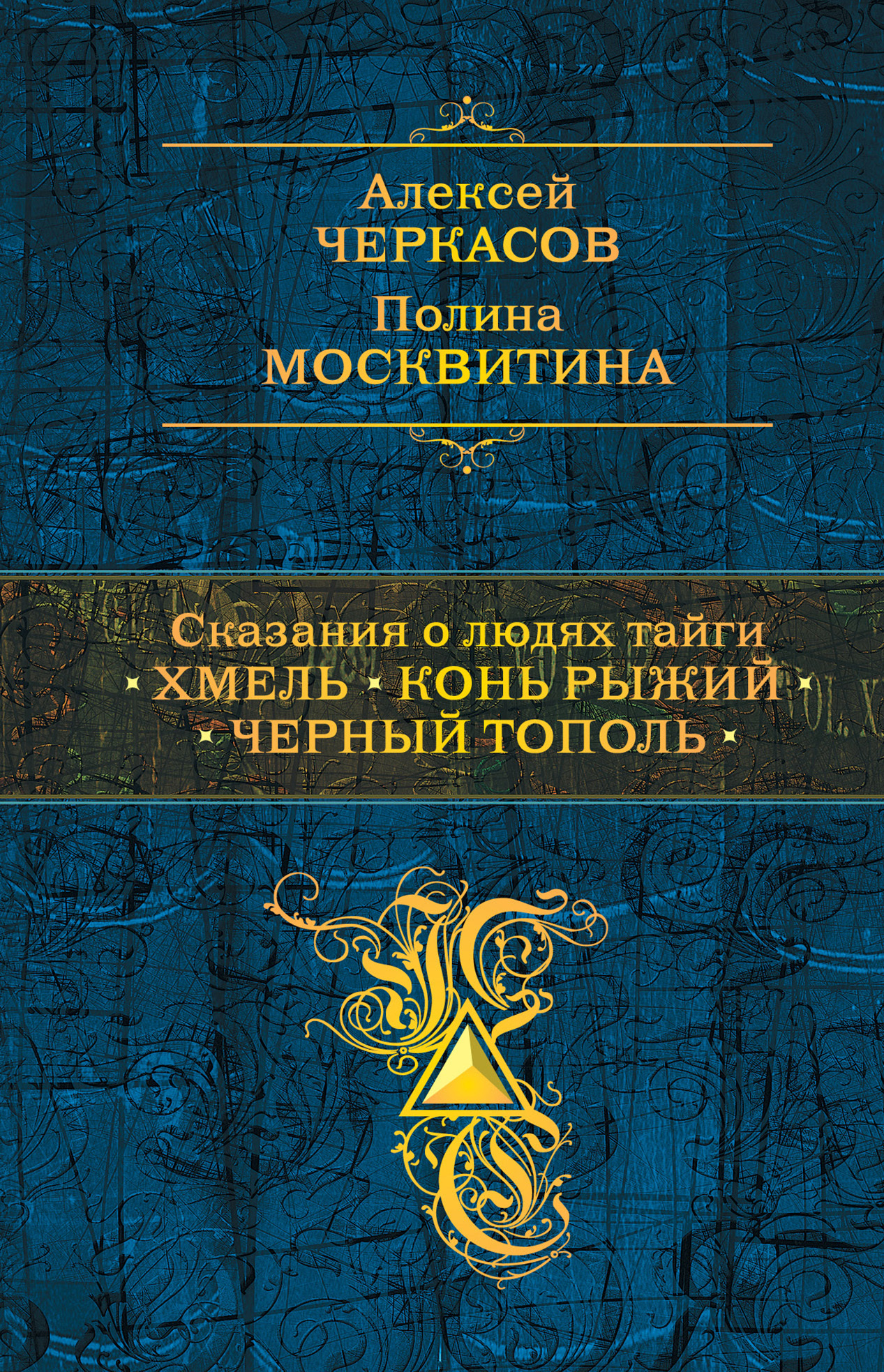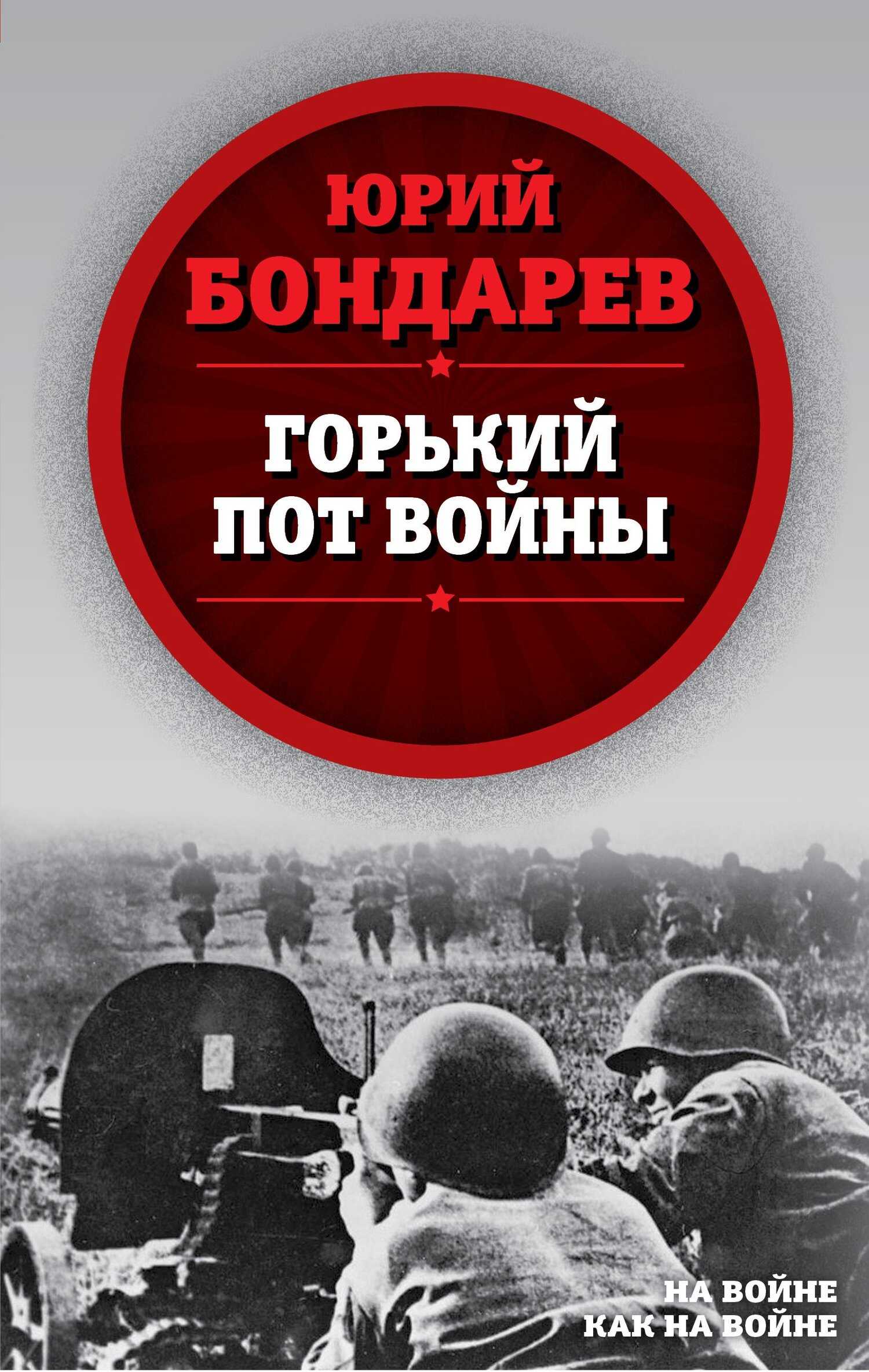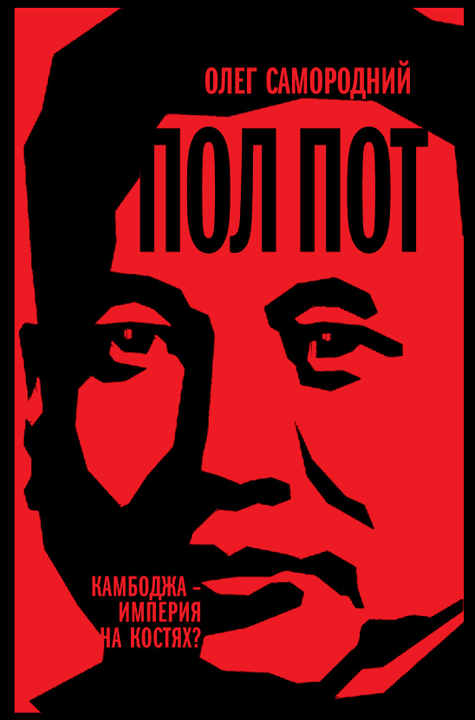Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Опасные авантюры и экзотические путешествия ожидают героев сборника «Лучший приключенческий детектив». На кону жизнь, так почему бы не сыграть в рулетку? Окунуться с головой в приключения вас приглашают Татьяна Дегтярева «Золотой конь», В.О. Ронин «Сокровища Буссенара» и Иван Аврамов «Игру начинает покойник».
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Татьяна Дегтярёва»: