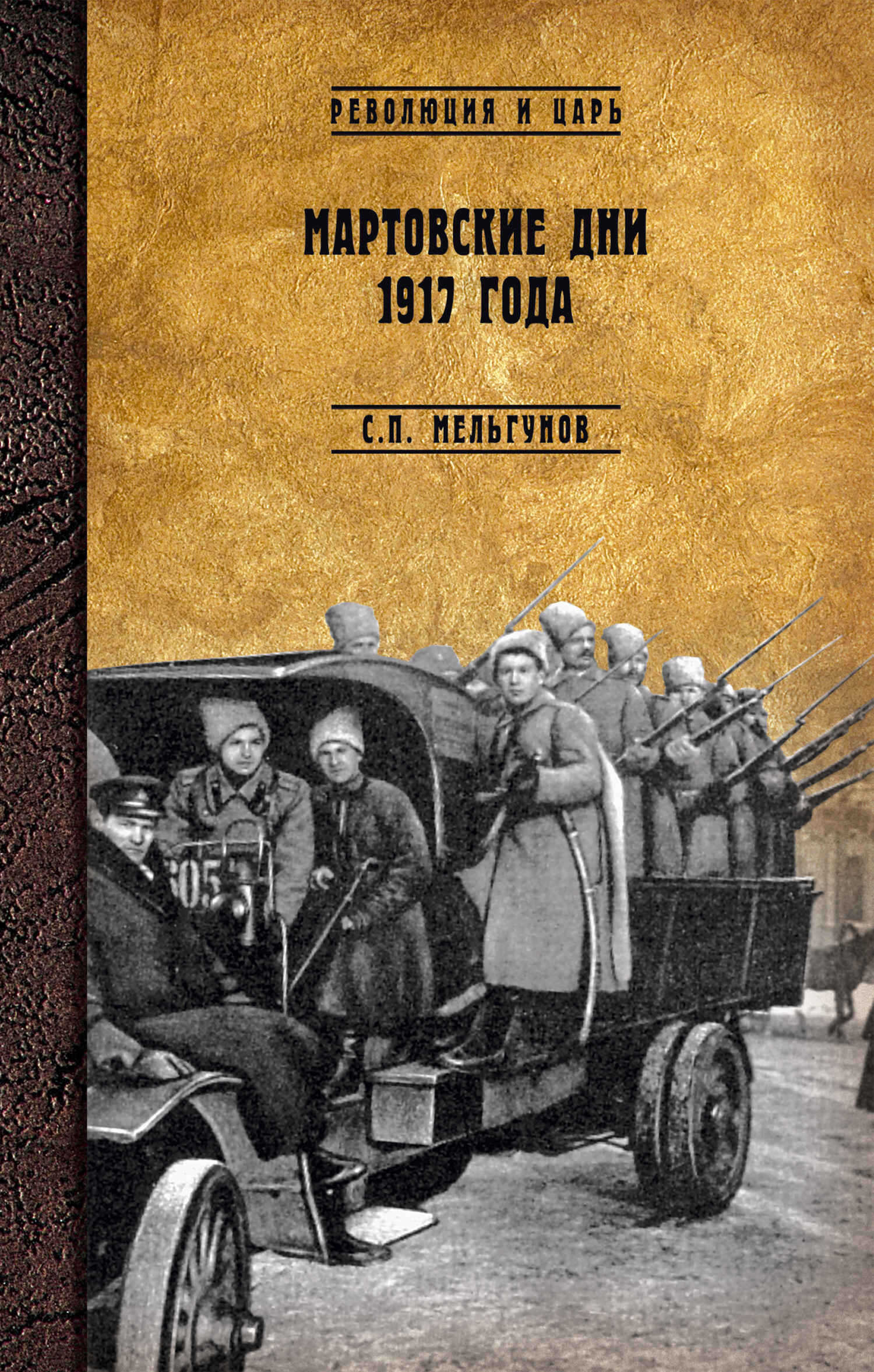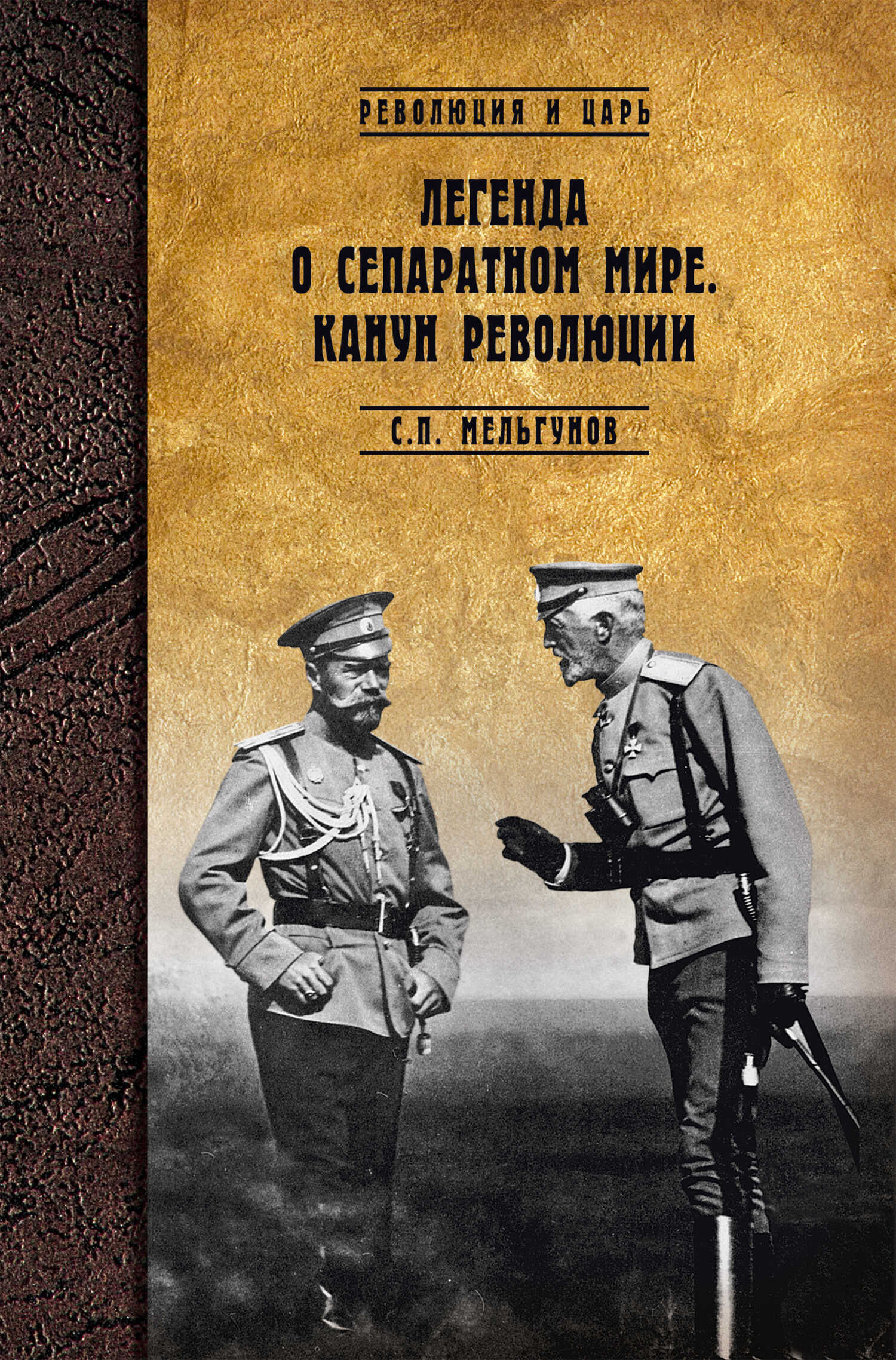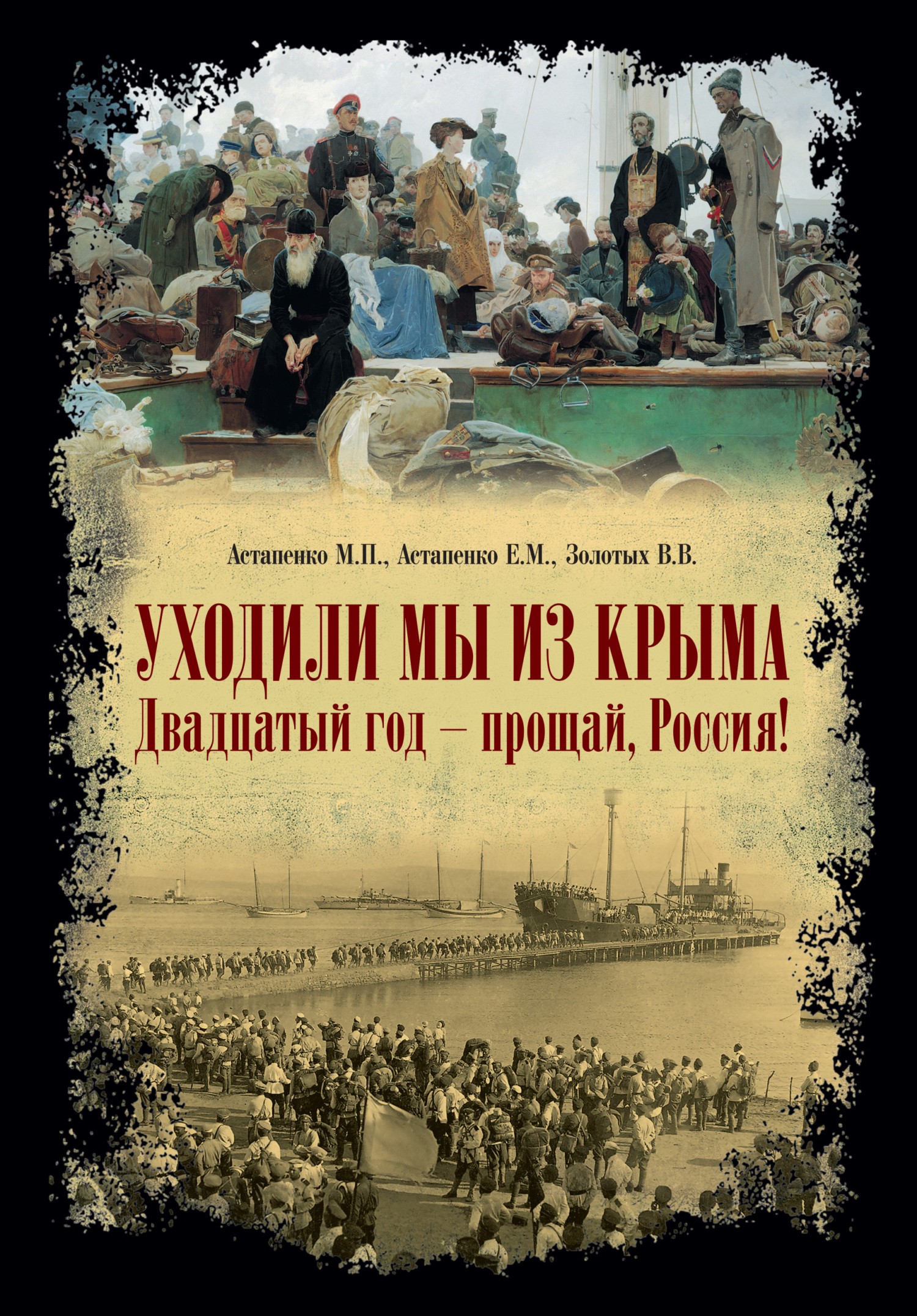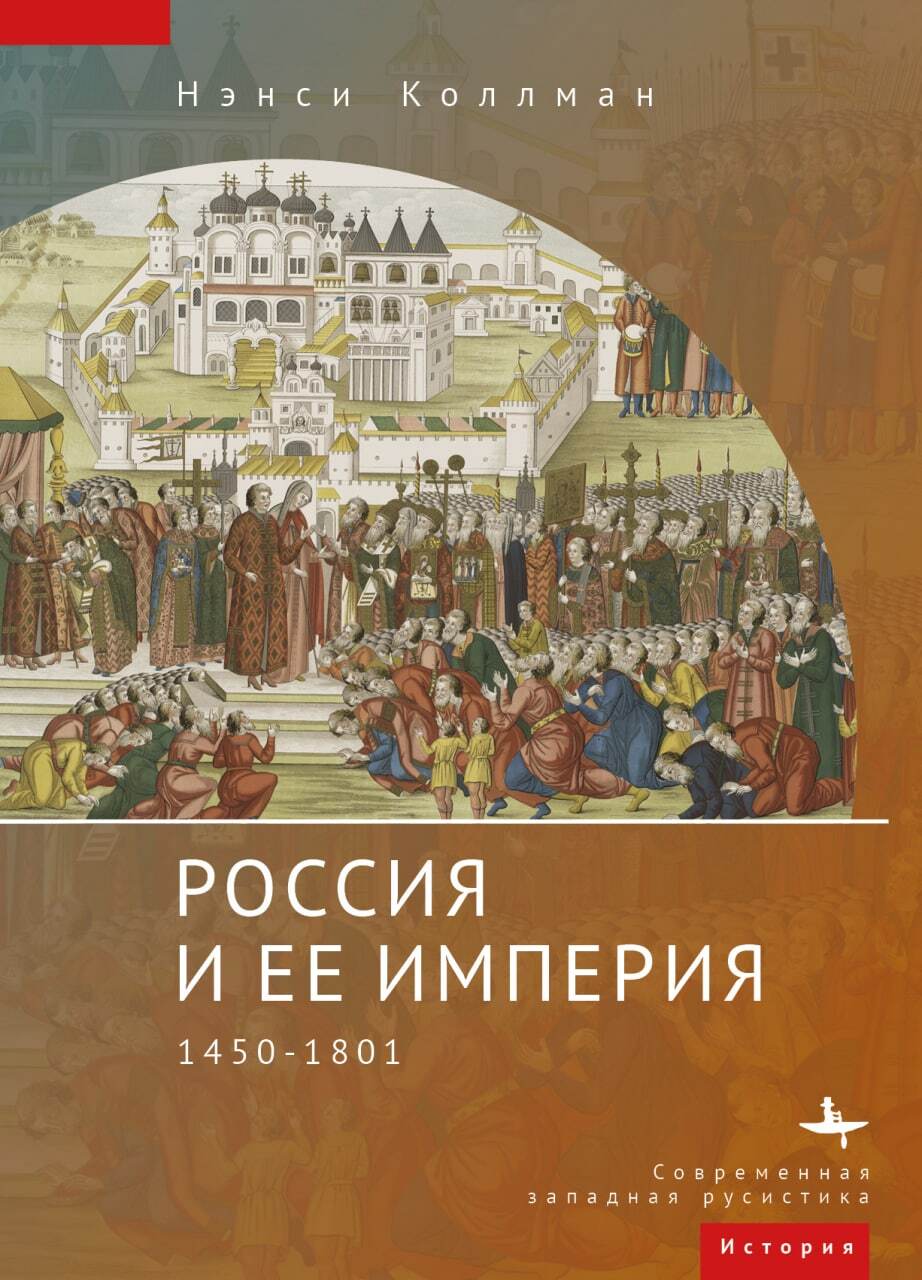Шрифт:
Закладка:
Издательство «Вече» впервые в России представляет читателям трилогию «Революция и царь» Сергея Петровича Мельгунова, посвященную сложнейшим коллизиям, которые привели к Февральским событиям, Октябрьскому перевороту и установлению в стране «красной диктатуры». В трилогию входят книги «Легенда о сепаратном мире. Канун революции», «Мартовские дни 1917 года», «Судьба императора Николая II после отречения. Историко-критические очерки». Мельгунов еще в 1930‑е годы подробно описал, какая паутина заговоров плелась в России против Николая II и какую роль играли в них масоны. Но он не касался вопроса о тех мифах и легендах, которые сформировались в российском обществе не без участия этих же самых заговорщиков и которые сыграли заметную роль в будущем крушении монархии. Этой теме он и посвятил свой труд «Легенда о сепаратном мире». Работая над ним в годы Второй мировой войны, последний раз он исправил и дополнил рукопись летом 1955 года. Впервые книга увидела свет в 1957 году, уже после смерти историка. Мельгунов поставил перед собой задачу разобраться в том, имела ли под собой эта легенда хоть какое-то основание, откуда она появилась, как распространялась и какую роль она сыграла в борьбе политических сил накануне Февраля. Фантастические слухи и домыслы распространялись в атмосфере массового психоза шпиономании, измены и предательства, которая сложилась в России с самого начала Первой мировой войны. Книга издана в авторской редакции с сохранением стилистики, сокращений и особенностей пунктуации оригинала.