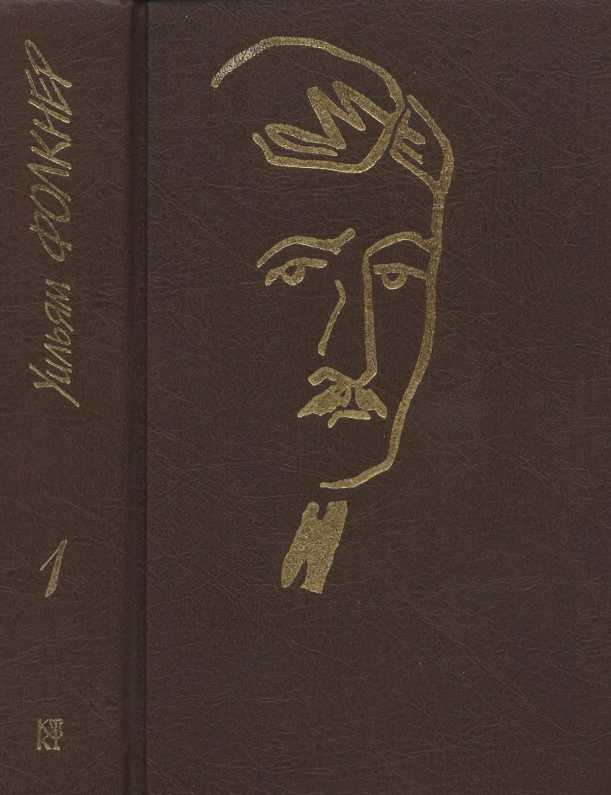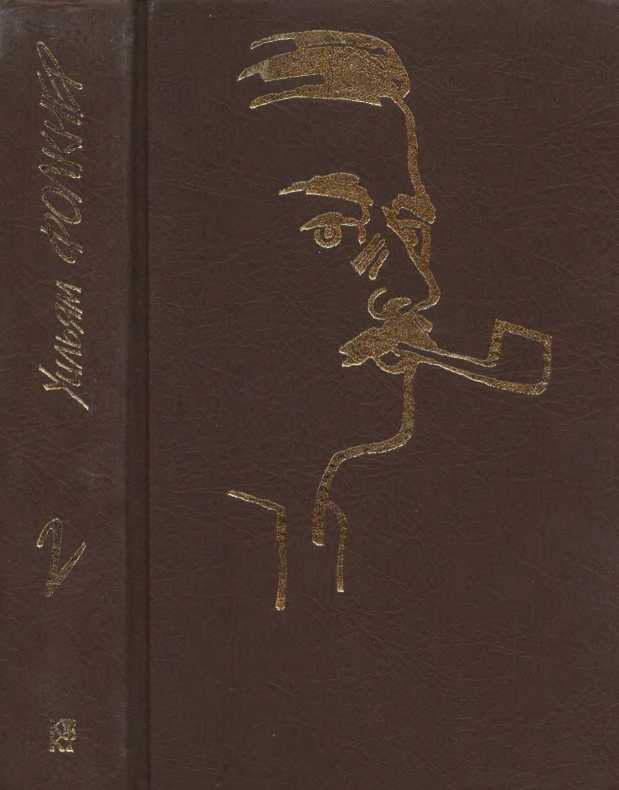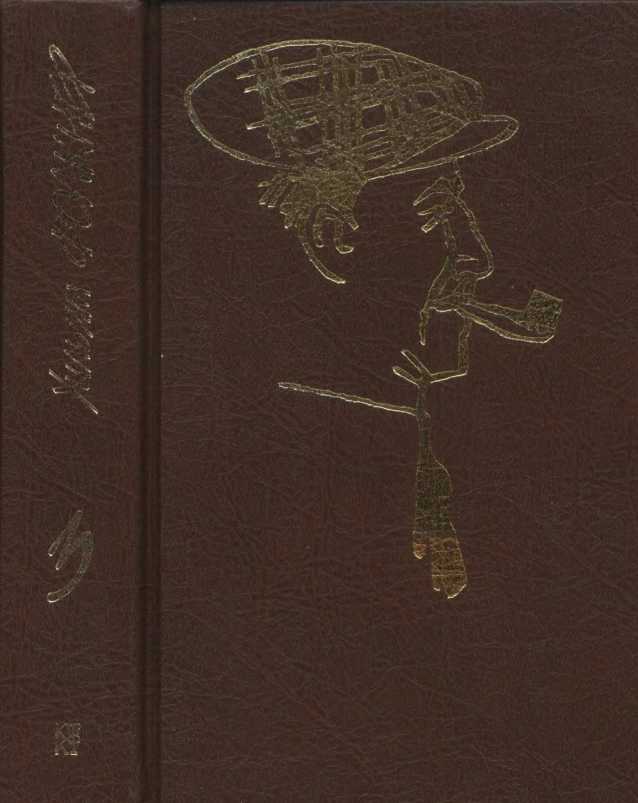Шрифт:
Закладка:
Рукам дозволялось танцевать на свадьбах, совершать мягкие, плавные движения, похожие на морские волны, взамен на купюры, которые в них вкладывали. Чем интереснее был танец женских рук, тем больше оказывалось в них купюр и тем чаще на эти руки обращали внимание. Но это не были танцы-повествования, их целью было не завлечь мужчину, а выразить радость чужому счастью, вознести хвалу великому Аллаху, который даровал этой девушке этого юношу. Зрелые женщины мастерски владели своими руками: они контролировали каждую мышцу, каждый палец, вовремя поворачивали ладони от себя и к себе, закручивали кисти подобно виноградным листьям долмы.
Главное, чего хотелось рукам всякой женщины в нашей семье, были дети, руки тосковали, когда они не убаюкивали ребенка, не качали его или ее хрупкое тело под пристальным взглядом луны.
Когда родился мой брат, мама, убаюкав его, носила спящего по квартире, ее рукам не хватало этого сладкого чувства наполненности: дети были ее главным утешением, они делали жизнь необычной, появляясь на свет, они приносили ей события, давали почву для разговора, становились поводом для гордости, но всякий раз они росли и переставали помещаться в тело ее рук. Они становились больше, чем собственное детское тело, переставали нуждаться в матери, и это расстраивало ее больше всего: вместе с собой повзрослевшие дети уносили работу, необходимость готовить еду, стирать вещи, мыть полы. Когда дети взрослели, оказывалось, что больше не нужно готовить и стирать так много и часто. Дни становились пустыми и однообразными: она узнавала обо всем по телефону или в разговоре, как случайный свидетель, чувства и события теперь были отдельными от нее. Она переставала быть участницей жизни собственных детей, и тогда ее руки начинали тосковать.
Ее руки никогда не писали: они искали работу. Так, в особенно одинокий год она затеяла ремонт квартиры: сама ошкурила двери, покрыла их лаком, покрасила стулья, украсила пространство, которое, как она точно знала, никогда не покинет ее.
Руки мужчин, что я знала, готовили редко: в основном отец нанизывал мясо на шампуры и жарил шашлык. Деньги тоже были только в мужских отцовских руках: он давал нам небольшие суммы на карманные расходы, давал матери денег на покупку мебели или техники — так и должен был, по мнению моего отца, вести себя отец семейства. Зарабатывать деньги, приносить их в дом, выдавать, чтобы деньги затем обменяли на вещи или продукты. Каждый раз наутро после очередного скандала, приступа ревности и злости, когда отец избивал мать, он приходил с полным пакетом продуктов и протягивал его нам. Отец покупал то, что мы с сестрой любили больше всего: шоколадки «Темпо», ананасы, мармелад, жвачки. Он словно пытался купить наше молчание, обменять синяки матери на конфеты. Самым страшным было то, что мы не могли отказать: он знал, чтó мы любим, знал, что шоколад способен купить сердца двух маленьких девочек. Это были ядовитые сладости, пропитанные простым и очевидным семейным законом — мужским рукам дозволено бить, мужские руки контролировали весь дом, держали его в узде. Миллиметры и сантиметры избитого материнского тела он обменивал на конфеты: чем сильнее он бил ее накануне, тем больше было конфет и тем страшнее был наш с сестрой соблазн. Он приучал нас к молчанию, к послушанию, никто не смел останавливать его руки, когда он открывал очередную бутылку водки, чтобы налить себе стакан.
Часто отец сетовал на то, как мы обрусели, как утратили язык, забыли свои традиции, уподобились своим русским подружкам, он говорил, что, если бы увез нас вовремя, мы выросли бы нормальными детьми. Но быстрее всех обрусел он сам. Он пустил в кровь горькую русскую водку и уже не смог жить без нее: когда мы были совсем маленькими, отец мечтал о том дне, когда вернется на родную землю, на родину, но только водка уже успела утопить его южное тело в своей горячей воде. Чем старше мы становились, тем больше у него появлялось сожалений, вместе с растущим разочарованием увеличивалось и количество водки, выпиваемое им по вечерам. Наконец мама, уставшая терпеть пьяные выходки отца, решила его закодировать. Кто-то из знакомых посоветовал ей целителя в области, никто не знал, что именно он делал с больными, но одно было точно — они переставали пить. Целитель завел отца в кабинет и плотно закрыл дверь, а спустя двадцать-тридцать минут вышел и сказал, что отец не будет пить шесть лет. Случайность это или закономерность, но отец действительно не пил ровно шесть лет.
Без алкоголя он становился лучше: мягким, склонным к болтовне, ласковым, дурачился, как ребенок, всё лучшее в нем, всё, что я по-настоящему любила, вернулось вновь. Когда папа не пил, он казался мне хорошим человеком: щедрым, открытым, возможно, слишком наивным. Он любил разговаривать с разными людьми, всегда искренне интересовался, как дела у продавщиц в магазине, подбирал всех брошенных собак и кошек в округе, обожал смотреть мультики и плакал, когда смотрел «Жди меня». Я так и не смогла разгадать, как в нем уживались два этих человека: нежный и наивный папа, который вместе с нами радуется мартышкам в зоопарке, и тот другой, неизвестный мне мужчина, который грубо швыряет мать на пол за то, что она припозднилась с работы. Больше всего мне нравилось, когда он улыбался, но всякий раз, когда он протягивал руки, чтобы обнять меня, я вся сжималась, опасаясь удара. Я слишком хорошо знала, на что способны его руки, я знала их силу, их беспощадность.
В средней школе нам с сестрой удалось уговорить отца купить собаку. Отец настаивал на породистой, это было естественно для него: ему нравилось выбирать яркое, дорогое, заметное, такие вещи поддерживали его чувство собственного достоинства и были отличным поводом похвастаться перед друзьями. На рынке отец уже почти убедил нас купить собаку бойцовской породы: вычурные белые собаки с вытянутыми мордами были очень дорогими, но совсем некрасивыми. Как вдруг мы заприметили маленького черного зверька, выглядывающего из коробки. Немецкая овчарка, последний щенок из помета. Женщина-продавщица так обрадовалась нашему интересу, что отдала