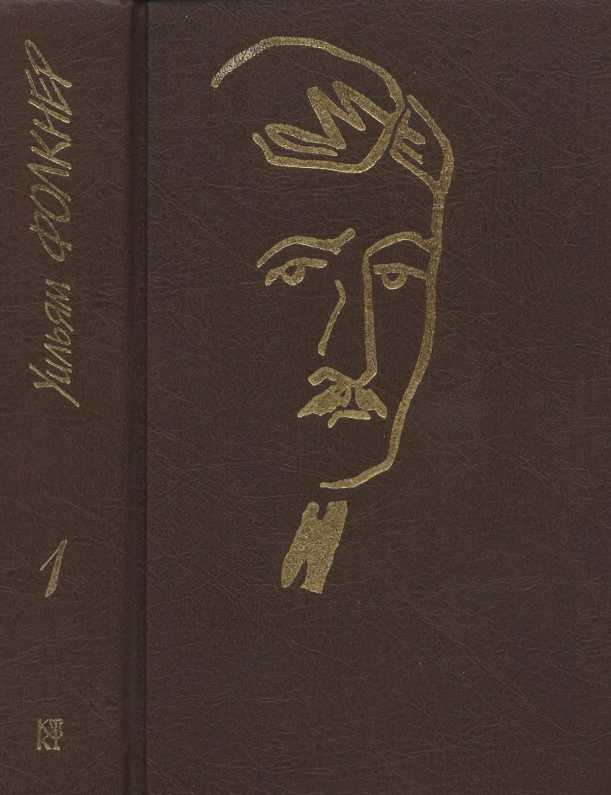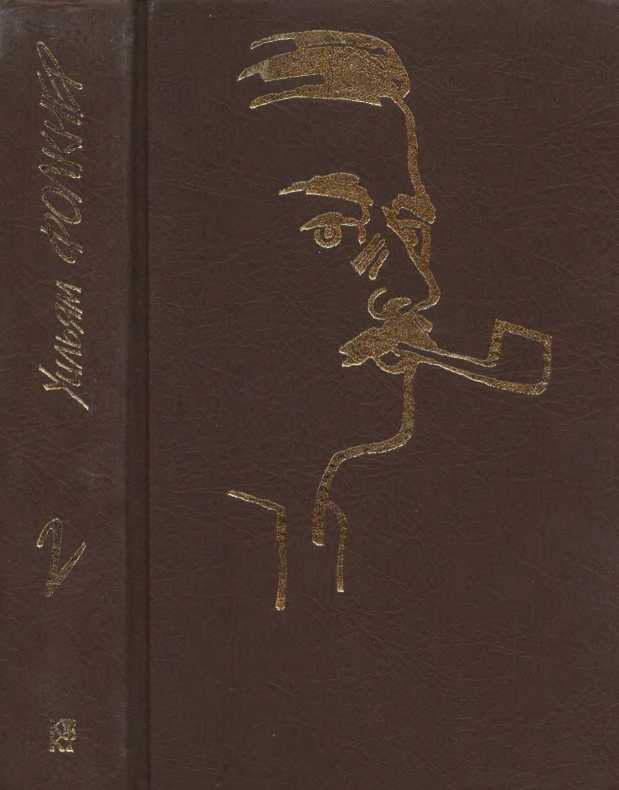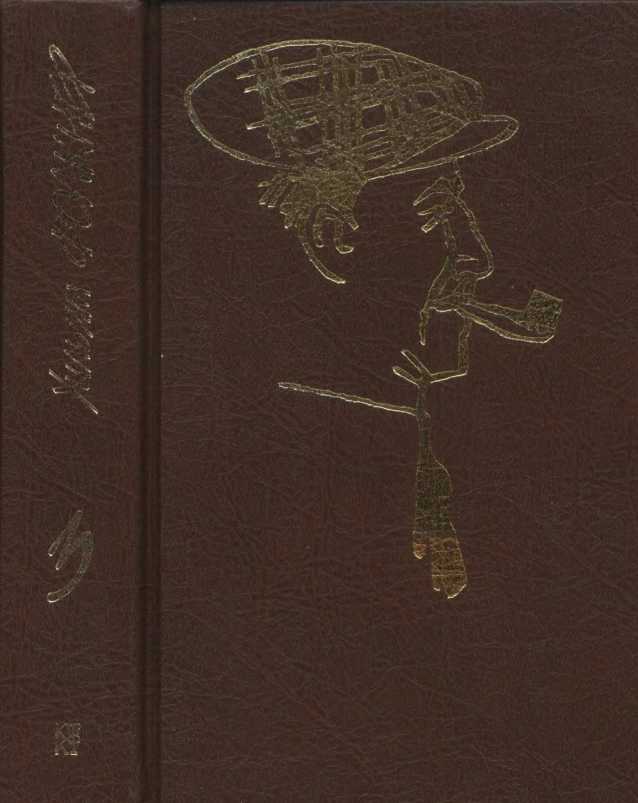Шрифт:
Закладка:
И хотя тут, в Баку, мы тоже считались «чужаками», на нас всё равно действовало правило «злых языков». У людей вокруг были не только злые глаза, но и злые языки, которые, конечно же, считались более опасными. Злые языки никогда не смолкали; если глаз не способен был передать чужой позор, то язык, напротив, разламывал увиденное на мелкие кусочки, а затем преобразовывал их в предложения и передавал от одного к другому, медленно отравляя всё вокруг. Все знали, что нет ничего хуже, чем стать предметом людских обсуждений. В мире, где я росла, ты существовал, пока о тебе говорили: если о тебе говорили хорошо, родственники и родители радовались — ведь это они создали достойного человека достойных родителей, но если о тебе говорили плохо — их лица омрачались, из любимого ребенка ты превращался в красную печать позора, густой деготь разочарования, и не было ничего страшнее, чем опозорить родителя.
Чтобы не стать жертвой злых языков, следовало чаще молчать и меньше делать: ибо деяния уподоблялись джиннам, невидимым, но ощутимым. Подобно Гуль[34], пожирающей тела мертвецов, местные женщины заманивали путников, знающих всё обо всех, чтобы умертвить реальных людей и накрыть стол блюдами из их проступков.
Закуской считались дела мужчин, всё же они мужчины — им разрешалось совершать ошибки, избивать жен, изменять им, заводить вторые семьи. Словно само их рождение, возможность продлить род и передать имя искупали будущие проступки.
Затем выносилось первое блюдо: деяния жен — густой суп, в котором разглядывали, какая хозяйка была недостаточно гостеприимна, чья еда не выдерживала критики, кто поскупился на свадьбе детей и пожалел мяса, чье платье оказалось слишком откровенным. Женщинам следовало быть безукоризненно праведными, ведь их дела интересовали всех: неправильно сказанное слово, чересчур короткое платье, фотография с бокалом вина в соцсетях — и можно было попрощаться со свадебным платьем навсегда, а потому все мои сестры никогда ничего не публиковали, если они и заводили страничку в соцсетях, то максимально обезличенную, где вместо портрета красовались цветы или далекие пейзажи, а «стена» напоминала сборник рецептов и бьюти-советов. Никто из них никогда ничего не писал и не рассказывал — ведь это означало скомпрометировать себя, оказаться сервированной к пиру джиннов.
Наконец, гостям предлагали основное блюдо — проступки детей. Их обсуждали дольше всего: кто связал себя узами брака, а кто еще одинок, кто развелся и почему, у кого родились дети, кто еще не родил детей и почему, кто и где работает, кто и сколько зарабатывает, а кто позорит семью. Самых страшных грешников обсуждали дольше всех, высасывая сок из их костей, как лечебный эликсир. Насытившись, гости, как ифриты[35], заполняли пустоту комнаты своими дурными языками, языки становились больше тел, занимали целые комнаты, своими шероховатыми поверхностями касаясь каждого, кто случайно заглядывал внутрь.
Язык моей матери был грустным: он мог быть русским, азербайджанским, турецким, но неизменно был грустным — в ее словах всегда были молитвы, заклинания, суры, но, главное, в них ощущалась тоска. Тоска по той жизни, которую она навсегда упустила, словно на нее вечно смотрела ее же фотография тридцатилетней давности, где ей только исполнилось восемнадцать: она состригла челку, которая ей совсем не идет, и мечтает стать моделью. Восемнадцатилетняя мама смотрит в камеру с вызовом, предвкушая эту странную и такую сложную жизнь. Она еще не знает, что ее выберет мой отец и она, поверив в настоящую любовь, вопреки родительским запретам сбежит с ним и выйдет за него замуж. Она не станет моделью и не поступит в медицинский университет, потому что в тот год заменят вступительный экзамен по химии на экзамен по физике, которую она знает плохо, она не знает, что сможет поступить только в медицинский колледж на медсестру. Не знает, что комната в общежитии превратится в приватизированную квартиру, где она родит двух дочерей и одного сына. Не знает, что никогда не вернется в родительский дом посреди грузинского поля, где сначала умрет ее мать, а затем умрет ее отец. Не знает, что дом ее детства перейдет в руки второй жены отца: женщины коварной, болтливой и алчной, бесконечно выпрашивающей деньги. Женщины, которая срубит под корень все деревья в их саду, и даже большое тутовое дерево, на котором любили лежать дети. В языке моей матери всегда чувствовалась тоска, словно тоска была камнем на самом дне каждого ее предложения, это была не просто тоска, а тоска, полная сомнений: что, если бы я поступила иначе?
Она никогда не задавала этот вопрос отцу. Женщины вообще никогда не говорили с мужчинами напрямую, даже с отцом или с братом разговор шел через тонкую сетку, в которой застревали самые важные, большие, смелые, широкие, правдивые слова.