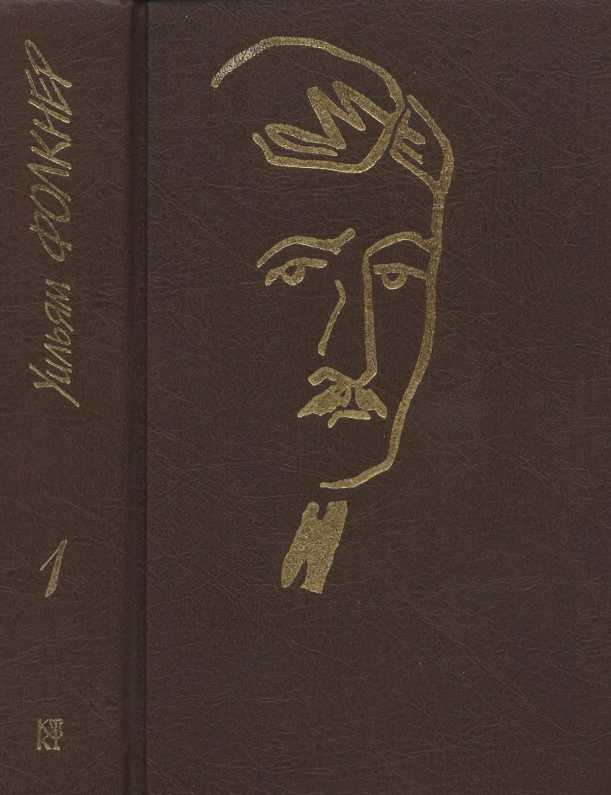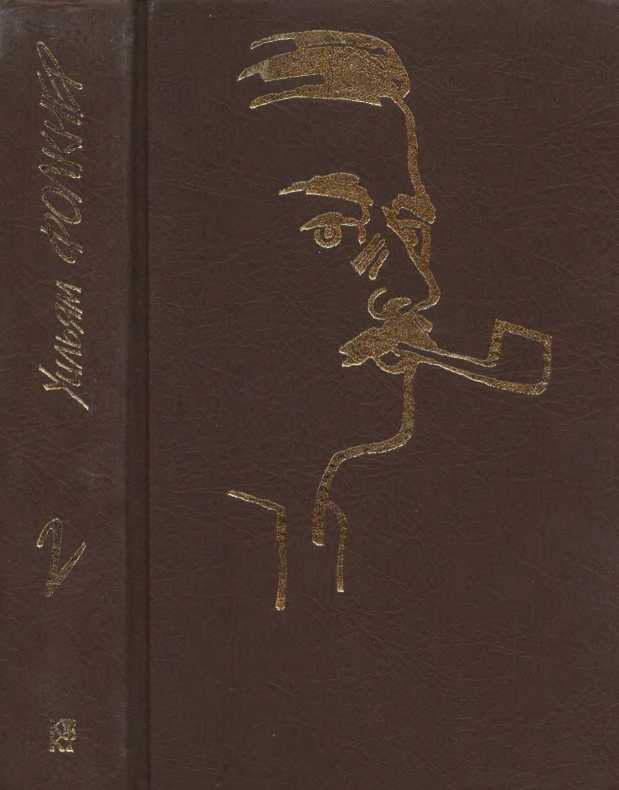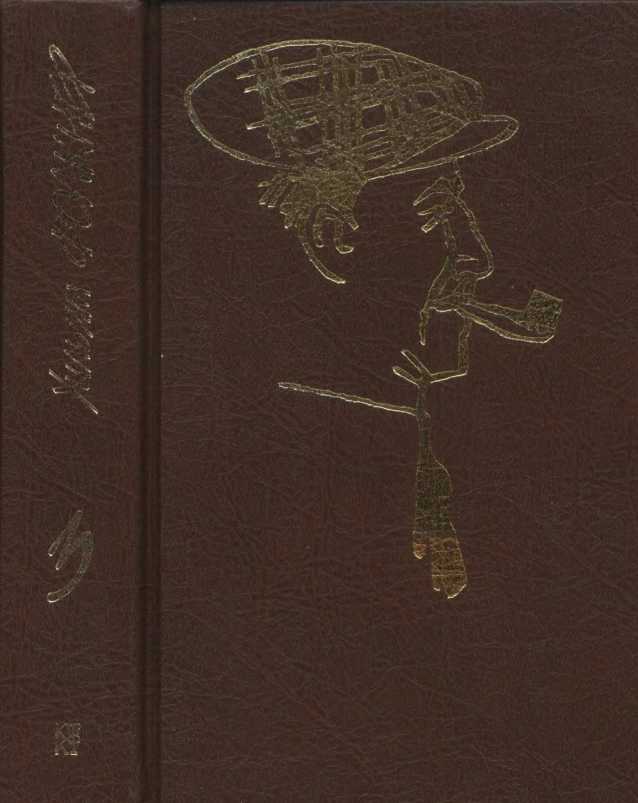Шрифт:
Закладка:
В центре книги Еганы Джаббаровой — тело молодой женщины, существование которого, с одной стороны, регулируется строгими правилами патриархальной азербайджанской семьи и общины, а с другой — подчинено неврологической болезни, вызывающей сильные боли и отнимающей речь. Обращаясь с методичностью исследователя к каждой из частей тела, писательница поднимает пласты воспоминаний, традиций и практик, запретов и предписаний, связывая их с самым личным, фундаментальным и неизбежным, что есть у человека, — физической оболочкой. Может быть, болезнь в конечном счете не только ограничивает и лишает, но и дает ключ к освобождению? Истории нескольких поколений женщин, принадлежность и чужеродность, неподчинение и выживание, наследие, которое не выбираешь, и как с ним быть — в таких координатах живет дебютная прозаическая книга Еганы Джаббаровой.