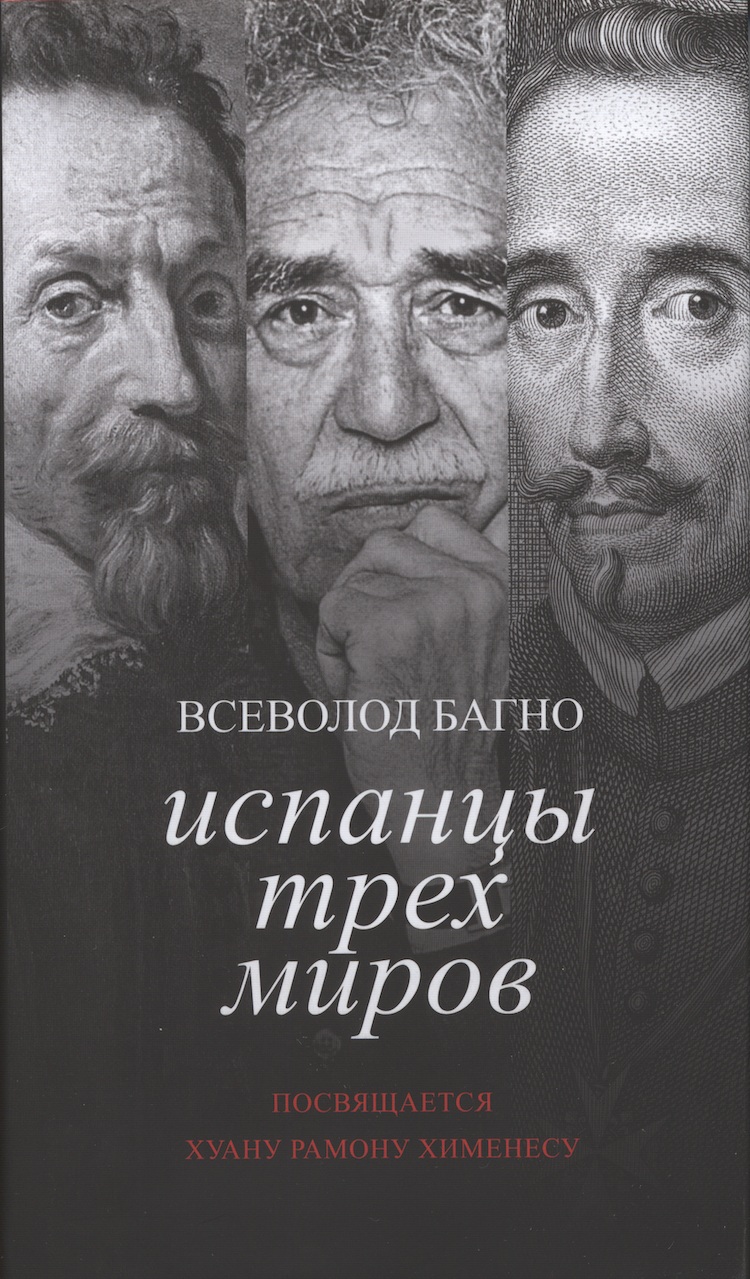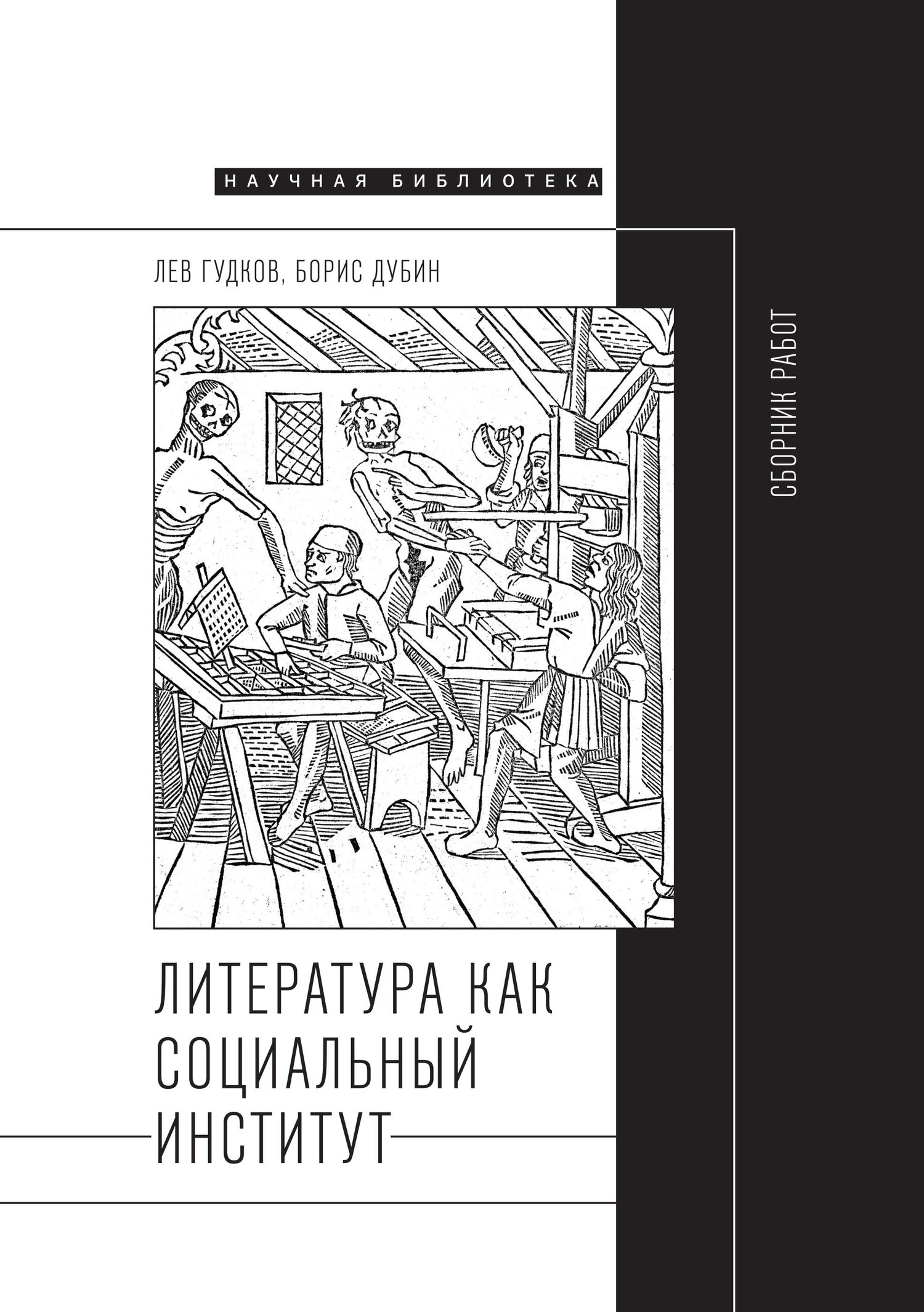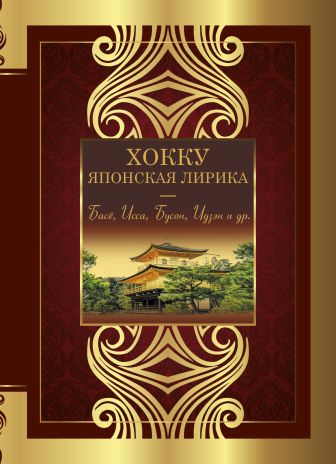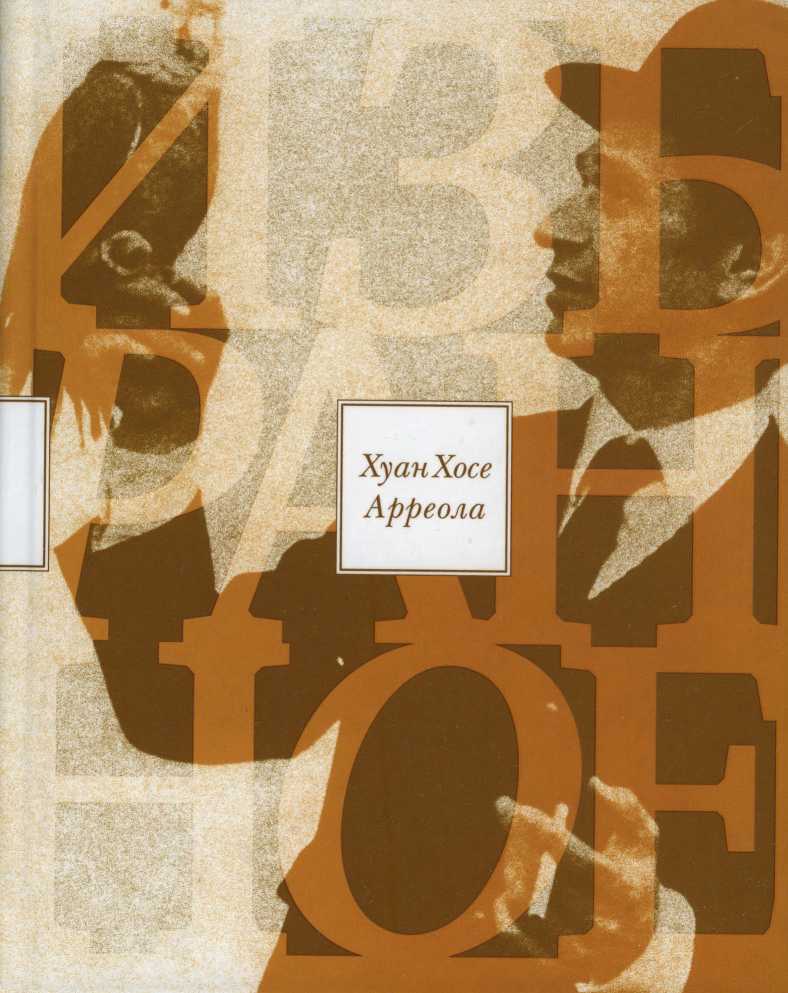Шрифт:
Закладка:
Это книга для любителей исторического романа, которая рассказывает о том, как испанцы покоряли и исследовали новые земли в XVI-XVII веках.
Испанцы Трех Миров - это увлекательный роман о том, как главные герои Альваро и Инес пускаются в опасное путешествие по трех континентам - Европе, Америке и Азии. Альваро - молодой и отважный испанец, который мечтает стать конкистадором и славиться своими подвигами. Инес - красивая и умная испанка, которая мечтает стать ученым и изучать новые культуры и языки.
В своем путешествии Альваро и Инес сталкиваются с разными приключениями и опасностями. Они участвуют в завоевании Мексики и Перу, в поиске легендарного Эльдорадо, в обороне Филиппин от пиратов и восстаний, в торговле с Китаем и Японией. Они узнают о том, как живут и думают индейцы, азиаты и европейцы. Они также узнают о том, что есть любовь, дружба и предательство.
«Испанцы Трех Миров» - это книга, которая не даст вам скучать. Это книга, которая заставит вас переживать за судьбу героев, удивляться их приключениям и мечтать о том, что все будет хорошо. Это книга, которая покажет вам, что человек может быть сильнее любого зла. Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com