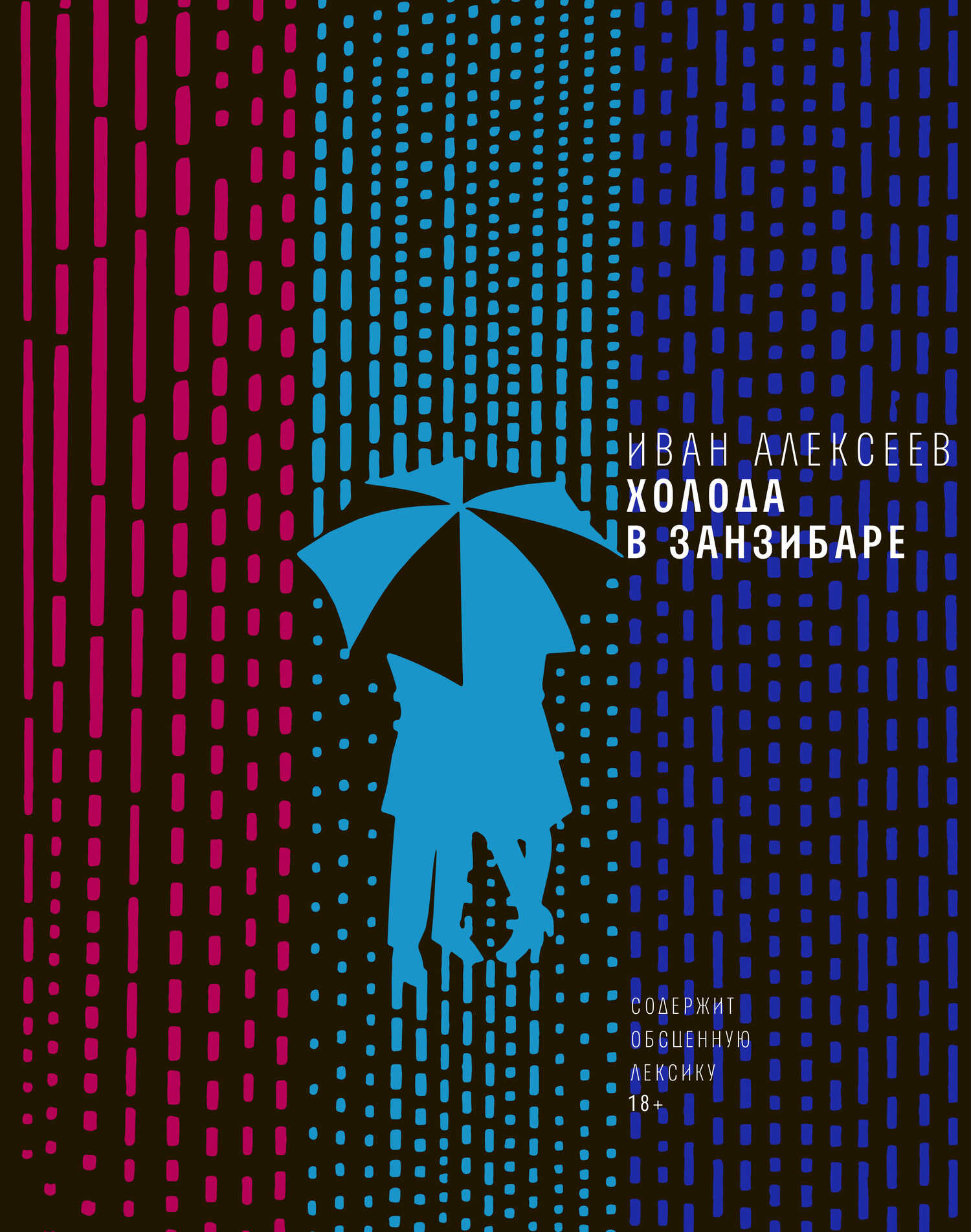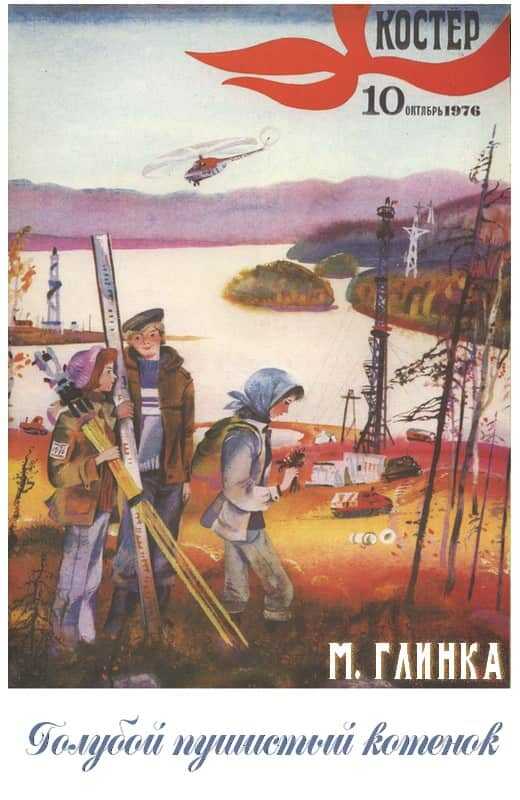Шрифт:
Закладка:
Я любил болеть. Потому что сразу отменялась ледяная вода, лыжные марафоны и приседания с гантелями – минимум на месяц. На шее колючий шерстистый шарф, на придвинутом к кровати стуле – пахучие пузырьки с микстурами, приготовленное мамой полосканье – раствор соды с каплей йода. А девясил пил? – спросила Вика. Редкостная гадость, ответил я. Почему-то это нам показалось очень смешным.
Постельный период болезни сменялся процедурным. Пожилая медсестра в ортопедическом ботинке, удлинявшем ногу, не спеша настраивала скрипучие шарниры деревянных полированных конечностей аппарата УВЧ, подводила черные диски под углы челюсти, включала чуть слышное тепло. Потом я пересаживался к другому аппарату и мужественно терпел во рту жесткий тубус – через него ультрафиолетом облучались миндалины. Принимая эти бессмысленные процедуры, я замирал, покрываясь мурашками от причастности к чему-то значительному и таинственному. К маме в больнице я всегда обращался по имени-отчеству: здравствуйте, Софья Наумовна. Здравствуйте, молодой человек, отвечала мама. На работе ее осанка расправлялась, мама казалась выше ростом, хотя каблучок у туфель был небольшой. От ее официального запаха моя голова почтительно втягивалась в плечи: на работе «Красная Москва» пахла острее, чем дома; с ароматом духов совокуплялись горелые запахи биксов, туалетной хлорки, озона из утренних кабинетов, свою нотку добавляли испарения свежего линолеума. Однажды мама отбила у хирургов московского генерала, приехавшего в Плесецк с проверкой, – тот пришел на пульт и потерял сознание. Гемоглобин с эритроцитами за красной чертой. Хирурги решили, что это желудочное кровотечение, чуть не схватили на стол. Тогда, маленькая, эндоскопии не было, сказал Игорь. А маму смутил вид генеральского языка, она пошла смотреть стекла. Сама. А там – сплошь мегалобласты. Анемия Аддиссона – Бирмера? – спросила ты.
Наши ладони переплелись в кармане моей куртки – там, в темной тряпичной глубине совершалась наша первая близость. Едва заметное движение твоих пальцев в кармане заставило меня продолжать: на территории «Склифа» рядом с котельной стоял вросший в землю ободранный кирпичный флигель. Перекошенная, со следами взломов дверь с пружиной бросила порцию света на деревянную лестницу и тотчас ее проглотила. Несколько ступеней вниз и два студента – Игорь Несветов и Слава Ольхин – оказались в тесном операционном зале. Сверху сквозь мутные стекла сочился скудный зимний свет. Выщербленная плитка пола поблескивала влагой после недавней уборки, остро пахло формалином и нашатырем. Под самодельными плакатами со схемами операций сидела, сложив на коленях руки с набухшими венами, женщина в хирургическом халате. А там, где проводились величайшие операции двадцатого века – на деревянном операционном столе, выкрашенном белой краской, – стояли две бутылки кефира, лежали батон белого хлеба и колбаса, завернутая в блеклую оберточную бумагу. Владимир Петрович болеет, сказала женщина, не повернув головы в нашу сторону. В портфеле у меня лежала его книга «Пересадка жизненно важных органов в эксперименте», добытая у букиниста. Вторая бутылка кефира подавала надежду, что Демихов где-то рядом. Что-нибудь серьезное? – с почтительным беспокойством спросил Слава женщину. Серьезней не бывает, ответила женщина: запой. Демихов – это тот, который двухголовых собак делал? – спросила ты. Столь длинных монологов о себе Игорь еще не произносил. Кажется, рассказал тебе все. Как будто снял с себя кожу. Оставил на донышке: не смог рассказать про урну с мамой, лежавшую в обувной коробке на нижней полке платяного шкафа.
После смерти мамы прошло четыре месяца, через два дня – экзамен по фармакологии. В тот день Игорь застал отца на кухне в обычной позе – один локоть на подоконнике, другой на столе. Его пижама обветшала, залоснилась, рукава размахрились. Ракетчик-печник внезапно помер, не выполнив обещания пристроить прах. Возвращаясь пьяным с его поминок, отец угодил в комендатуру. Портфель, в котором лежали справки о смерти и кремации, пропал. Отца выперли из Академии, где он преподавал какую-то секретную специальность. Его запой вошел в новую фазу – светлых промежутков, когда он держался и не пил с утра, уже не было.
Лицо у отца раскраснелось – бутылка была почти пуста. Игорь уже больше месяца с ним не разговаривал и питался в своей комнате. Он готовил яичницу и чувствовал спиной, как тяжелый отцовский взгляд сопровождает его перемещения по кухне. На сковороде стреляло масло. Я все любил в твоей матери, все! Родинки! Морщинки! Под градусом чувство вины делало Несветова-старшего речистым. Даже мозольки на ногах! Все любил! Игорь не уходил, ждал, сцепив зубы, когда яичные желтки затянутся белой мутью. И фамилия моя прикипела к ней как родная! Кровная, понимаешь? Не-све-то-ва! – проскандировал отец, подняв вверх палец. Готовая яичница соскользнула из сковородки на тарелку. Ну подумай, ну что это такое? Ну? Регельсон? Антисемитизм обострился после эмиграции тети Ани в Израиль – отец считал, что по этой причине он не стал генералом. На секунду я схлестнулся с отцом взглядами. Тот не выдержал, отвел глаза и недоуменно – вдогонку к сказанному – развел руками. Регельсон, ну? – еще раз повторил он. Чем эти «мозольки» так резанули Игоря? Своей неприглядной интимностью? Он так и не понял. В тот же вечер собрал вещи и перебрался к Бете.
Хорошо, что ты уезжаешь, – улыбка приоткрыла фосфор Викиных зубов. Хоть виден свет в конце тоннеля. Игорь лихорадочно искал, что ответить, не нашелся, только сильно, до боли сжал в кармане ее руку. Больше всего ему хотелось сейчас раствориться в ее кровотоке, стать ее болезнью, с наглостью вируса встроиться в ее ДНК. Я вернусь в свою жизнь, завершила мысль Вика, и буду думать, что ничего не было.
Мы уже миновали светящиеся окна домов на Ленинградке, обогнули просторную, как пасть кашалота, лестницу Гидропроекта и вышли на Волоколамку. У подземного перехода остановились. Твоя рука покинула нагретый карман. Дальше сама, сказала ты. До твоего подъезда метров триста. Ты боишься встретить знакомых. Ты об этом не говоришь, но я это знаю.
Надя не брала трубку. Решил ехать к ней. Сначала прошвырнулся к «Соколу» – обменять валюту и купить талончики для трамвая. На развилке Волоколамки и Ленинградки вместо Андропова – реклама кока-колы. Магазины поменяли названия и вывески. В арке генеральского дома на калитке чугунных решетчатых ворот, через которую много лет назад нырял в Гулин двор, – кодовый замок. Когда-то там, в подъезде, за стеклом освещенного окошка сидела лифтерша тетя Капа и вязала носок. Пока лифт, спускаясь, урчал в шахте, Капа замирала над вязаньем и каменным взглядом поверх очков сканировала непрописанного пришельца.
Площадь у «Сокола» заросла какими-то возведенными на