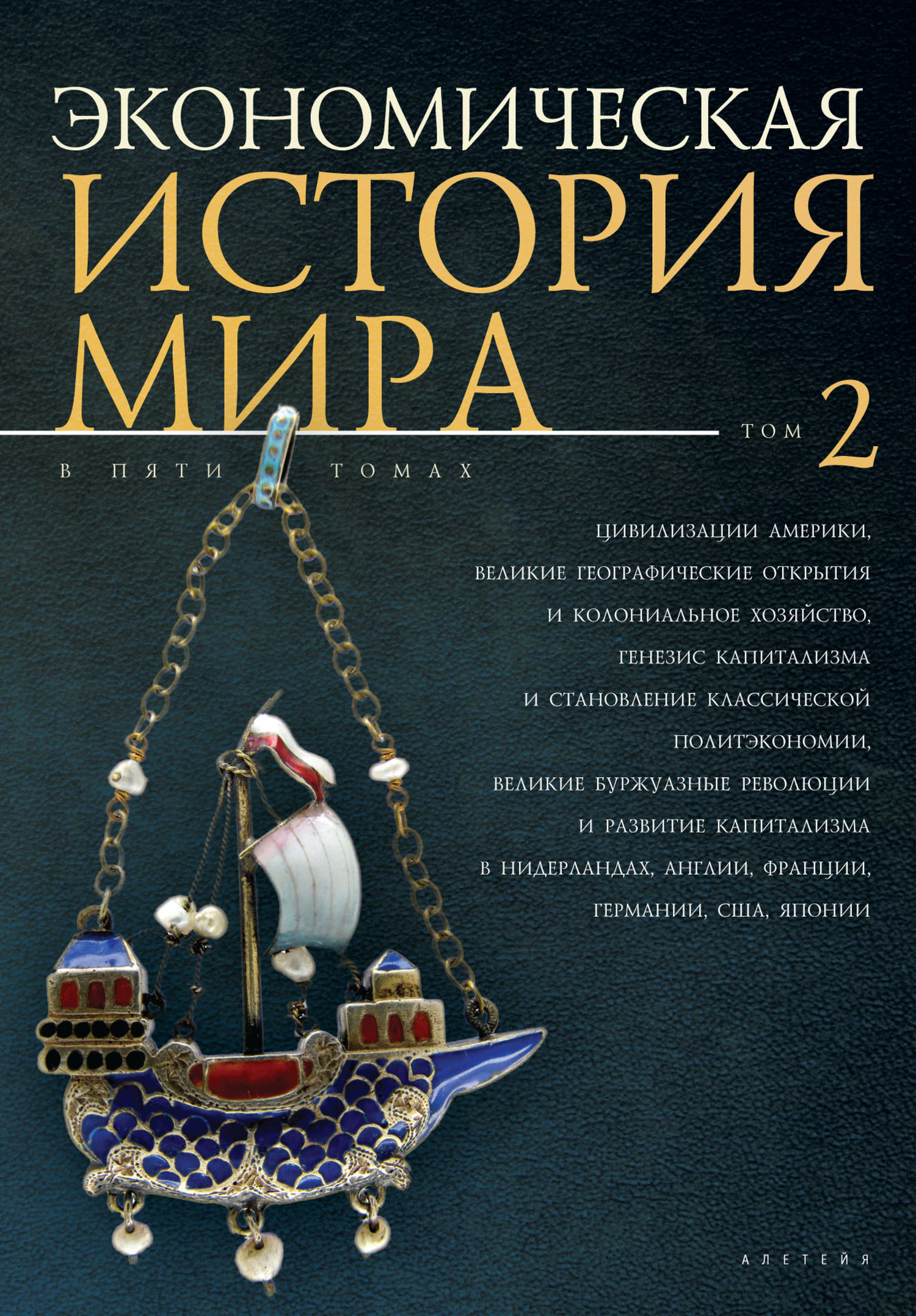Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Долгое время в странах бывшего СССР Джудит Батлер воспринимали прежде всего как гендерного теоретика, в частности – теоретика квир перформативности. Задача этой книги состоит в том, чтобы представить ее как философа. Более того, как политического философа, ищущего политические решения в условиях новой, по ее мнению, онтологии социального – онтологии войн. Хотя Батлер критикует свое правительство, свой национализм, свою религию, но в политических стратегиях, которые она анализирует, легко узнаваемы наши постсоветские, с которыми мы сталкиваемся в своем собственном политическом, экономическом и культурном контексте.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Ирина Анатольевна Жеребкина»: