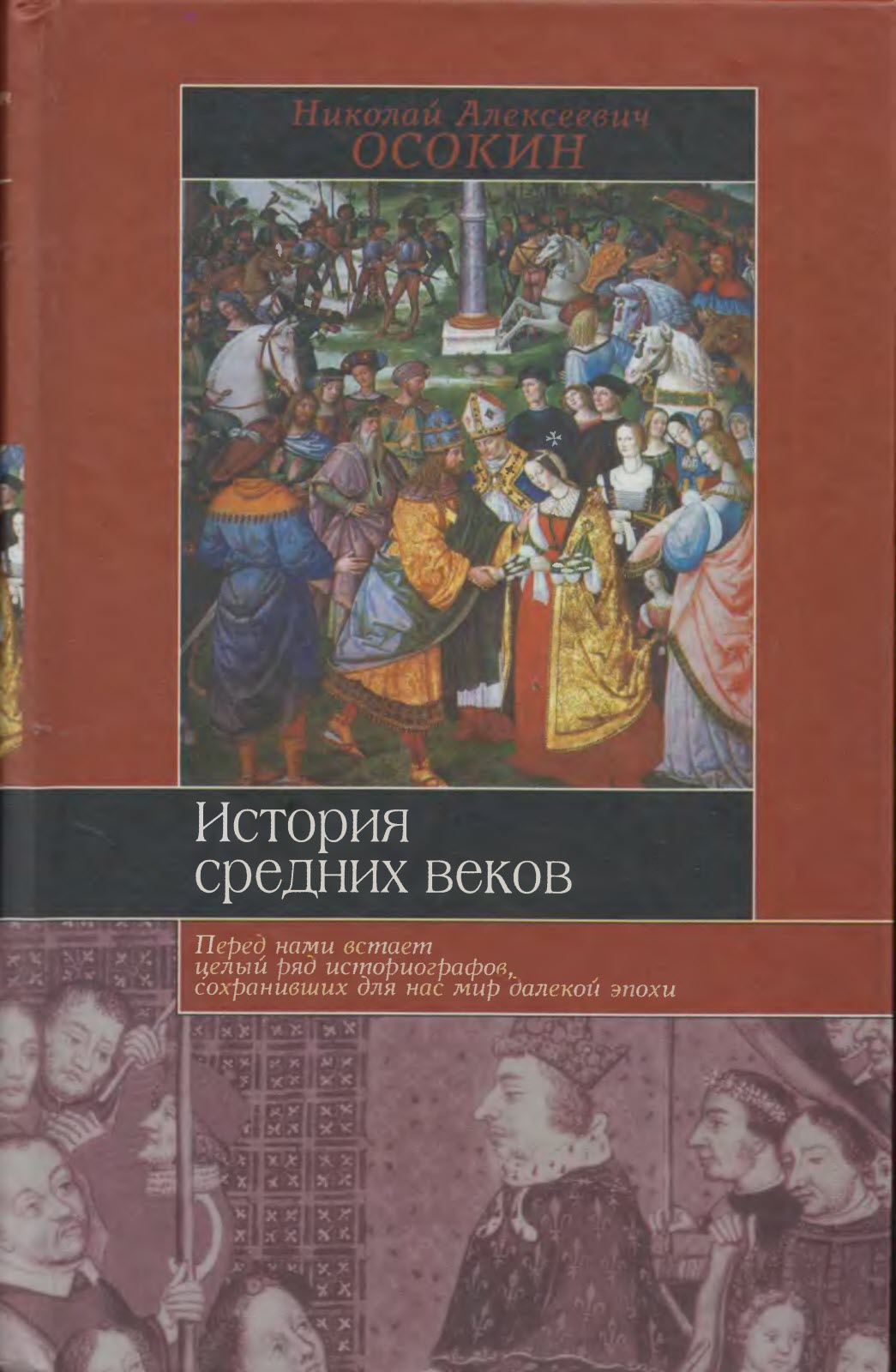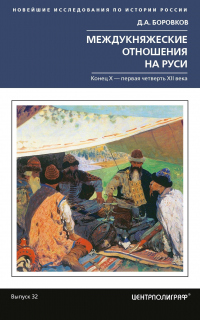Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Николай Алексеевич Осокин (1843–1895) — известный русский историк, профессор Казанского университета. Его труд «История средних веков» (1888) читается с огромным интересом и отличается живым, увлекательным изложением. На страницах книги перед нами встает целый ряд историографов, сохранивших для нас мир далекой эпохи, не просто соединивший античность и новое время, но давший начало эпохе Возрождения и современной цивилизации. В «Очерке средневековой историографии», который автор поместил в конце книги, представлены сведения о западных, славянских, византийских и частично арабских историках и летописцах.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Николай Алексеевич Осокин»: