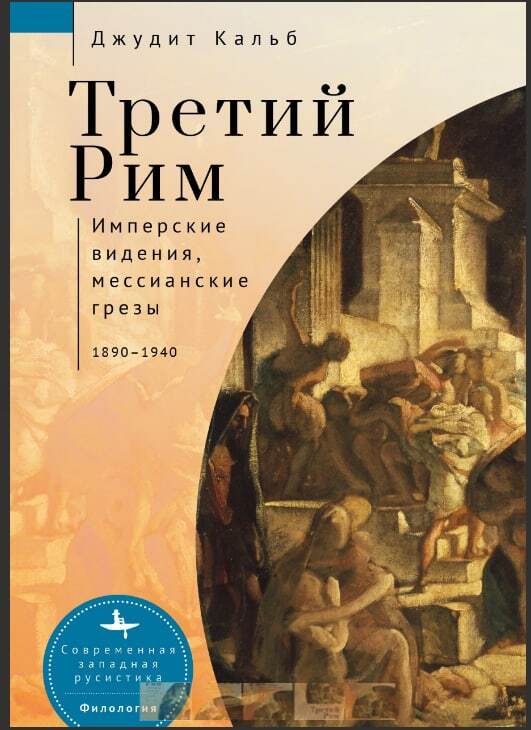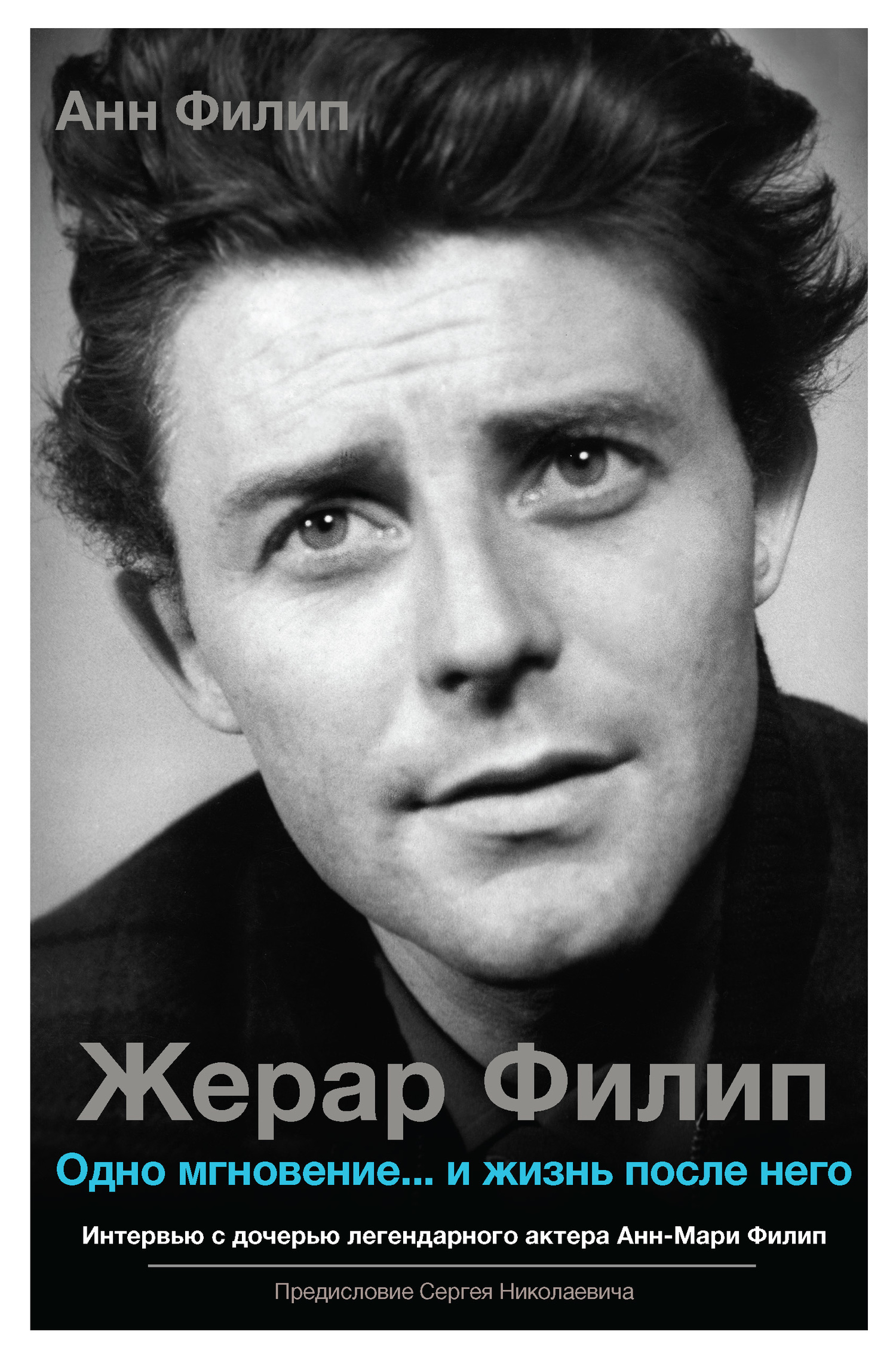Шрифт:
Закладка:
Подборка разнообразных публикаций и других источников начала предыдущего столетия подробно прокомментирована и позволяет представить Северную столицу в неожиданном и непривычном ракурсе, узнать о быте и нравах того времени, узнать, как жили горожане, увидеть всю многогранность бытия большого города, где роскошь соседствовала с уродливой нищетой. О чем думали и грезили петербуржцы? Какие мечты, планы и надежды строили? Какие тайные роковые страсти их обуревали? Каким кумирам поклонялись и кого безудержно порицали, низвергали с пьедесталов? Каков же, наконец, был город в пору, о которой сегодня принято говорить с придыханием? Прочитав книгу, вы узнаете много интересного и сможете провести поразительные параллели между нравами той эпохи и нашим временем. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.