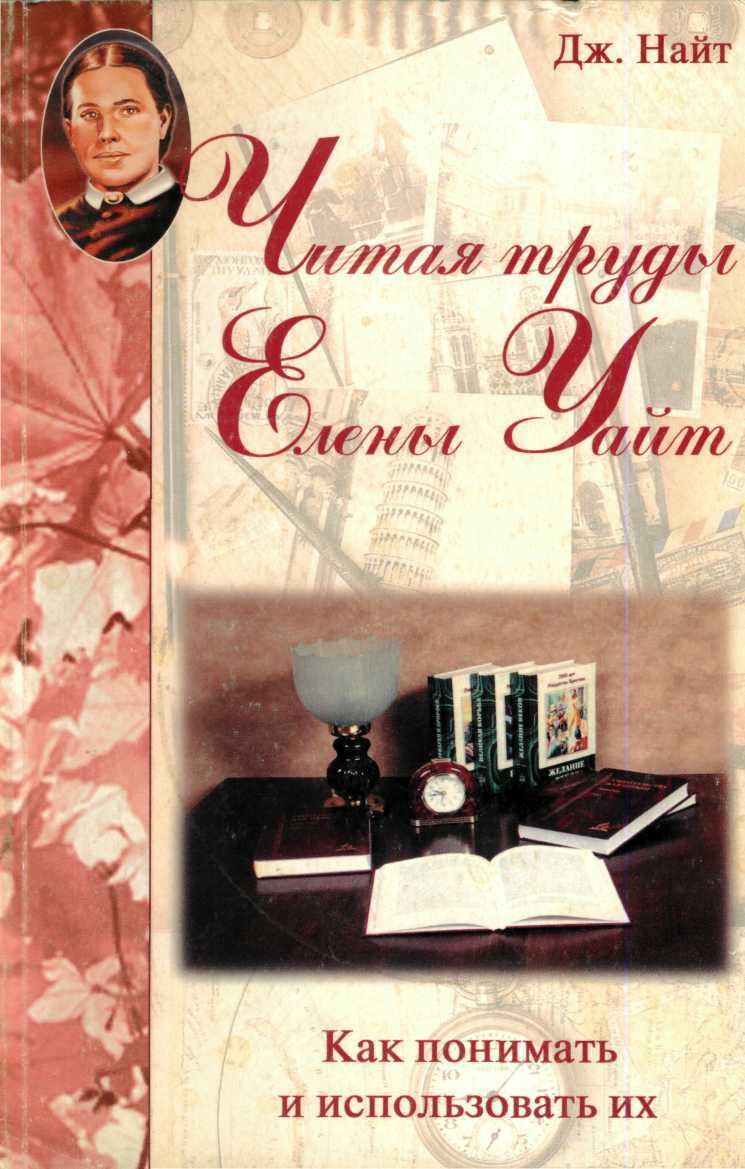Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В новом романе Даниэля Бергера «Кофе с перцем» любовь крепко замешана со смертью, события из современной истории Турции с древними притчами, а кофе – с самыми опасными сущностями. «Чего ты хочешь?» – сидящий на жаркой улице Фетхие старик задает единственный вопрос. Один хочет варить кофе, от которого проясняется взгляд и ум, другой – порвать со старой жизнью, третий, чтобы его страна следовала своей судьбе. Все желания исполнятся – но одному Богу известно, к чему это приведет.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Даниэль Бергер»: