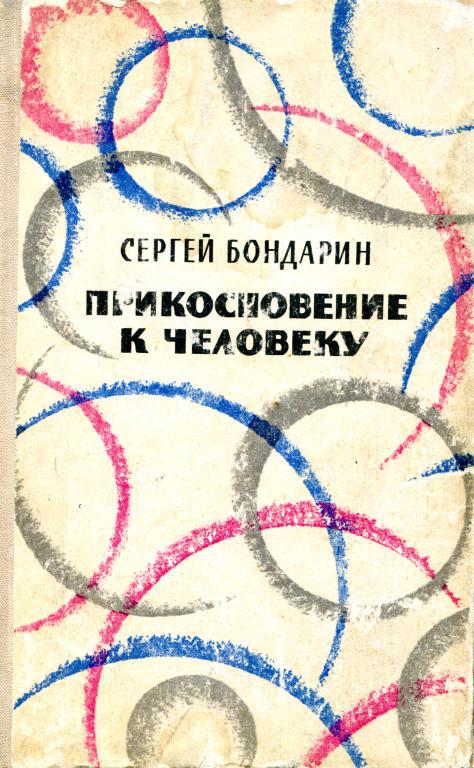Шрифт:
Закладка:
Первый пристрелочный залп вышибает из слуха Верещагина голос Онипко, а я, волнуясь, жду указаний для артиллеристов.
После залпа — тишина. Буйный, разбойный шум эфира, выпущенный из мембраны, отзывается в углах рубки, но вот голос Онипко снова одолевает его:
— Вынос влево, перелет. Меньше пятнадцать, правее…
Передаю результаты первого залпа.
Батарею нужно разгромить как можно быстрее, не давши противнику времени обнаружить корпост. И успешность завершения плана, и участь самого корпоста зависят от его командира Дорошенко, от самообладания, находчивости, точности наблюдателей, наконец, от их способности к мимикрии.
Толстяк лежит где-то в кустах или, зарывшись в стог соломы, хладнокровно наблюдает падение наших снарядов, быстро производит расчет, передает поправки Онипко, тот — нам, на корабль. Артиллерист Боровик обрабатывает их.
Залп. Снова ожидание.
Снова голос Онипко:
— Мыслете шесть. Люди четыре. — То есть меньше шесть, лево четыре.
Залп.
Противник, застигнутый врасплох, сбитый с толку, не зная, каким образом корректируется эта стрельба, начинает отвечать уже после того, как наш очередной залп ложится угрожающе близко к цели.
Несколько всплесков показалось в прорывах между дымзавесой, подобно тому как при полете над облаками вдруг видны через их прорывы где-то внизу деревья или крыши. Потом всплески вырастают по эту сторону завесы — снаряды противника ложатся перелетом.
В голову «Скифа» снова выходит эсминец, он снова оставляет за собой тугой, нарастающий клубами хвост. Радостная белизна отражена в воде, сияет, клубится; и мы, прикрытые этой живой стеною, медленно продвигаемся вдоль ее, продолжая стрельбу.
Залп, быстрая, как молния, вспышка озаряет завесу. Залп.
— Накрытие. На батарее паника. Прислуга оставляет орудия.
Боровик переходит на поражение.
Удары залпов становятся так часты, что их гром и содрогание корабля уже не замечаются нами, и в это время я опять слышу голос Онипко.
Забывая строгий язык цифр, он передает словами:
— Батарея накрыта, больше не стреляет.
А в щель приоткрывшейся двери рубки вдруг заносит свист, точно среди бурного оперного представления пронзительно засвистели с галерки, и слышу торопливо-резкую команду Ершова:
— Право руля!
— Больше не стреляют, — снова радостно повторяет голос Онипко.
— Бомбы! Все под прикрытие, — снова слышен голос Ершова.
Лидер вздрогнул грозно, его как бы подбросило, потянуло книзу, совсем откинулась дверь рубки, посыпались незакрепленные предметы.
Падение обманчиво казалось долгим. Верещагин ухватился за край стола, встревоженно косясь на меня, но, очевидно услыхав опять голос Онипко, принял прежнюю позу — с карандашом в руке.
Бомбы? Торпеда?
Из дымовых труб с шумом выносило пар.
ЖИВУЧЕСТЬ
В восемь пятьдесят три лидер был атакован с воздуха. Это произошло так неожиданно, что многим показалось, будто корабль поражен торпедой или набежал на мину.
Самолеты сбросили бомбы с большой высоты по площади. Брызги воды и грязи густо метнулись вдоль по кораблю.
Зенитки открыли ответный огонь, когда бомбардировщики уже удалялись. Конечно, это был грубый недосмотр, но сказалась и сила сопротивления удару, тем более чувствительному и опасному, что был он неожиданным.
Трудно поверить, как просто и хладнокровно моряки перешли от условностей боевых учений к действительности войны.
Корабль вернулся на курс. Башни возобновили стрельбу. А у Верещагина связь с Онипко, собственно, и не прерывалась.
Пробоина и разрыв обшивки образовались в районе кормовых шпангоутов с правого борта. Бомба упала чрезвычайно удачно для нас. Немного ближе к корме — и корабль лишился бы руля; ближе к носу помещался погреб с боезапасом.
В пробоину хлынула вода, затопляя сначала пятый кубрик, потом смежный четвертый. Поплыли рамки со стенгазетами, и плакатами, постельное белье, личные вещи бойцов.
Вода начала проникать в кормовой погреб.
Командир погреба задраил стеллажи и медленно, спокойно, шаг за шагом отступал к верхнему люку по мере того, как поднималась вода. Отсюда, сверху, он продолжал внимательно наблюдать за состоянием погреба, как этого требовала боевая инструкция.
Сверх ожиданий, больше все растерялся старший механик Сыркин, наш ППС.
Уже немолодой, с большим опытом инженер, он хорошо знал корабль, принятый им, так сказать, «на корню», но его раздражительность мешала ему и прежде, и сейчас опять он взял неверный тон: окриком и нервозностью не помог ни себе, ни другим.
Напротив, молодой щеголеватый командир аварийной партии Усышкин показал на деле верность своим взглядам.
— Моряку все равно где видеть море, — подшучивал Усышкин, — за бортом или в отсеке. Даже хорошо, — добавлял он, — если появилась возможность изучать море у себя в каюте лабораторным путем.
И вот Усышкин получил воду в большом количестве, вероятно даже больше, чем ему хотелось. Но и тут решил он пошутить.
К командиру корабля поступило донесение:
— Есть опасность, товарищ командир корабля, сесть на мель.
— Кто говорит? В чем дело?
— Докладывает инженер старший лейтенант Усышкин…
Оказалось, что Сыркин в растерянности дал согласие применить эжекторы для откачки воды непосредственно из помещений, затопленных через пробоину. Разумеется, Сыркину не позволили «осушать море». Неправильное распоряжение было отменено, и водоотливные средства заработали, выкачивая воду из помещений, уже изолированных от поврежденного отсека. Усышкин продолжал действовать если не совсем так, как в лаборатории, то все же с превосходным академическим спокойствием.
То же самое можно сказать и о Верещагине.
Бомбардировщики удалились — и вскоре Верещагин и Онипко перешли на морзянку: корпост, сделав свое дело, свертывался.
Уже вечерело. Катера двинулись к берегу, чтобы забрать корректировщиков.
И уже на отходе десант попал под огонь румынского кавалерийского отряда.
Лейтенанта Дорошенко бойцы вынесли на берег из несжатой пшеницы на черной флотской шинели: он был тяжело ранен.
Исчез Фесенко. Позже выяснилось, что его вымыло за борт через широкую щель, вымыло водоворотом. Успев вынырнуть и отдышавшись, он разделся на плаву, оставил только противогаз и вложил туда свой комсомольский билет. Его подобрал тот же катер, что шел с раненым Дорошенко.
С катера их обоих отправили в город, в госпиталь.
Онипко вернулся на корабль.
Из состава корпоста мы недосчитались только его командира, отлично выполнившего задачу.
Перед рассветом «Скиф» в сопровождении двух эсминцев своим ходом вышел в Севастополь.
Я так и не побывал на старом дворе с темным каштаном.
На этот раз в городе, раскинутом на холмах, не светилось ни одного огонька. Лишь блестела под звездами какая-то стеклянная крыша. Хорошо был виден купол театра. Дальше, в низинной части города, в районе пересыпских заводов, в самой глубине бухты, было глухо, ничего не разглядеть, но за продолговатым пятном Джеваховой горы по-прежнему метался огонь, розовели клубы дыма, и слышно было — в той стороне бомбят.
С этим впечатлением я уходил из Одессы, из города, где я рос и учился, где еще оставались