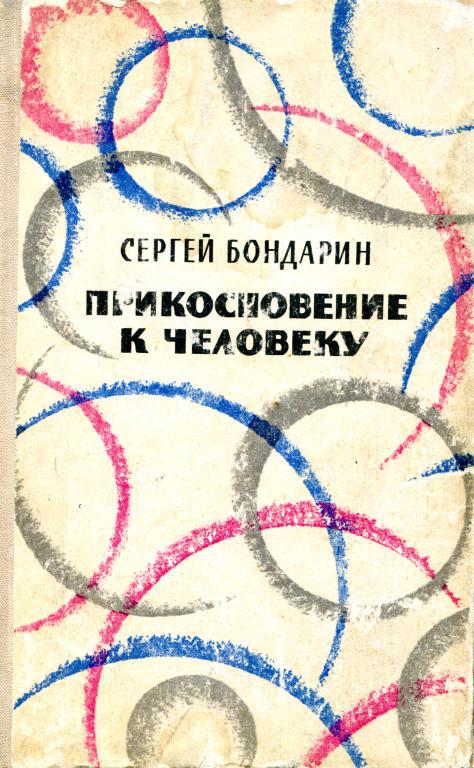Шрифт:
Закладка:
— Что значит — кто?
— Кто держит оборону?
— Ну, кто?
— Морской полк, командиром Осипов.
— Полк Осипова знаю.
— А Тихонюка знаешь?
— Боксера Тихонюка, что ушел в морскую пехоту? Ну, знаю.
— Он там в первом морском полку.
Краснофлотцы помолчали, потом тот, кто тоже помнил боксера Тихонюка, сигнальщик Лаушкин, сказал:
— Не знаю только, что это за война у нас на кораблях. Интересно — как это т а м воюют? Сойтись бы вплотную — кто кого? Я его или он меня? А т у т что? Придешь, постреляешь и уйдешь. Несерьезно! — И еще тише: — Интересно, почему это отдают город за городом? Вот, кажется, сам пошел бы, дал бы фрицам духу.
— Пехота приуморилась, — отвечал другой, более рассудительный. — А тебя все равно не пустят. Тихонюку просто подвезло.
— И Блинников ушел, и Галайда ушел, и пулеметчик Постник ушел, да мало ли кто ушел! — с досадой и сожалением о том, что не ушли на войну только они двое, продолжал сигнальщик.
— Со всех кораблей отпускают: с «Червоной Украины» полтораста человек ушло, с линкора — пятьсот…
— Вот дают! — рассмеялся кто-то третий. — И не запнутся. Пятьсот бойцов с линкора. Что ж тогда линкору? Вверх брюхом опрокидываться — и всё.
— А ты, Лаушкин, еще раз попробуй — подай новому командиру, — не унимался сигнальщик.
Его друг теперь помалкивал.
Я знал обоих. Сигнальщику Лаушкину советовали обратиться к новому командиру, то есть ко мне, а Лаушкин, донбасский парень, уже оставил у меня рапорт: «Хочу защищать Одессу и Советский Союз как снайпер общества «Динамо». С оружием в руках прошу списать в морскую пехоту». И потому, вероятно, на совет друга повторить заявление Лаушкин теперь промолчал. И не напрасно: не отпустил бы я Лаушкина, даже будь к этому возможность. Как отпустить сигнальщика, который однажды, не подозревая, что я слышу его, подал товарищу такой совет: «Если хочешь стать хорошим наблюдающим, ты полюби воздух». — «Как так?» — «Да так, как полюбил бы свою девушку: не своди глаз!»
На сигнальном мостике как-то сразу все присмирели.
На осте, в море, было темным-темно. В районе Лузановки пожар разгорался. Дальше к востоку продолжали вспыхивать красные блестки фугасных взрывов, и вдруг среди них проскользнула, упала звезда.
— Вот и Одесса! — сказал штурман.
— Вправо не ходить, так держать, — послышался голос Ершова.
Слева от нас призрачной башней медленно двигался маяк, справа — тихий, безлюдный брекватер. Буксирный пароход оттащил боновые заграждения и держал их, как держат руками тяжелые ворота, пока мы проходили. Свистнул паровоз. Свистнул так, что у меня защемило сердце. Сколько мальчишеских радостей напомнил этот свисток паровоза в Одесском порту!
Всю ночь стоял шум разгружаемых транспортов. По мостовым гремели танки и артиллерия.
Утром я поднялся на мостик. Неожиданный туман скрывал город. Но вот туман рассеивается, открывая порт и верхние припортовые кварталы.
«Скиф» швартовался у этого причала дней шесть тому назад — и как за эти дни все вокруг изменилось!
В домах на обугленных и засыпанных битым стеклом подоконниках кое-где еще стояли горшки с цветами, но за этими мрачными окнами не было никакой жизни. Огнем и взрывами все было выброшено вон из обгоревших, надтреснутых каменных коробок. В порту — опрокинутые вагоны; мостовые в воронках; щебень, рваное кровельное железо.
Вдоль надтреснутой стены разрушенного здания на высоте второго этажа все еще нависал балкон, а под балконом на стене давно было выведено крупными размашистыми черными буквами: «Под балконом не стоять — грозит обвалом».
Я невольно улыбнулся, хотя впечатление от этого зрелища было резкое, щемящее.
— Да, курьезно, — услышал я за спиною добрый голос Дорошенко, а штурман Дорофеев не преминул констатировать:
— Вот перед вами тотальная война: раз-бум-били.
Всё бы острить! Мрачная шутка не понравилась ни мне, ни Паше Дорошенко.
РАЗДАВЛЕННЫЙ ДОМ ФЕСЕНКО
Обозревая панораму города, я сразу нашел глазом старый, когда-то окрашенный светлой охрой двухэтажный дом над спуском в порт. Дом на Карантинной был пока цел.
— Вы, кажется, одессит? — опять заговорил штурман. — Есть родственники?
Я попробовал ему в тон небрежно отшутиться:
— Из родственников у меня там остался только старый каштан.
— Как? Какой каштан?
— Дореволюционное дерево каштан. Его посадил мой усатый дедушка в день рождения моей матери.
Дорошенко рассмеялся. Дорофеев помолчал и, хитро поблескивая глазами, как бы соображая, насколько может быть важен человеку старый каштан на старом одесском дворе, проговорил:
— Едва ли к концу войны вы будете помнить этого родственника.
Ершов стоял тут же. Услышав наш разговор, он повел плечом и обернулся ко мне.
— Отчего же? Каштан так каштан, — примирительно сказал он. — А вообще, будет возможность — сходите.
Я взглянул на Ершова с подозрением: нет ли в этой его снисходительности одному мне понятной усмешки? Но решить этот вопрос не успел.
— Та це ж мий дом! — послышался не то изумленный, не то испуганный возглас.
Я оглянулся.
Краснофлотец Фесенко, побледневший, с приоткрытым от изумления ртом смотрел в сторону большого пятиэтажного дома над крутым обрывом. Половина дома, обращенная к морю, была раздавлена. Обнажился громадный, в несколько этажей, простенок с разноцветными квадратами обоев, обломились стропила, торчало железо креплений.
Это было внушительней и печальней, чем осиротевший каштан, с этим я внутренне согласился.
Однако в другой, уцелевшей половине дома продолжалась жизнь: курится дымок над кирпичной трубой, на балконе развешано белье. Вышла на балкон женщина, поставила кастрюлю, перебрала белье.
Фесенко рассматривал дом, стараясь, по-видимому, догадаться, где же квартира его семьи — в разрушенной или уцелевшей части дома? Его товарищи молча следили за ним. Он хотел было что-то сказать, поднял руку, но внезапно ударил колокол громкого боя — сигнал воздушной тревоги.
Два бомбардировщика летели над хорошо мне знакомым куполом аспидного цвета. Это был купол Оперного театра. Тройка бомбардировщиков приближалась со стороны балюстрады Воронцовского дворца.
На мачтах кораблей взвилось «твердо» — желтый с черным флаг: «Самолеты противника в воздухе».
Самолеты, быстро вырастая, шли в нашу сторону.
У Карантинного мола заговорили зенитки крейсера.
Старый крейсер стоял в Одессе с первых дней обороны. На корабле держал флаг контр-адмирал. Моряки с этого корабля были теперь самыми занимательными собеседниками во всех госпиталях от Одессы до Батуми. За бортами корабля жили как в осажденном бастионе. Высокие старомодные трубы и борта крейсера изо дня в день все гуще усеивались пробоинами.
Пристегивая шлемы, бойцы с озабоченными лицами разбегались по палубам, к пушечным установкам. Наводчик у автомата сидел на низком откинутом сиденье, напоминая водителя мирной полевой косилки.
Из приоткрытых дверей башни выглядывали артиллеристы главного калибра.
— Лишних под прикрытия! — распорядился командир.
Щелкнули замки, и залаяли автоматы обоих бортов.
Я поглядывал на Ершова