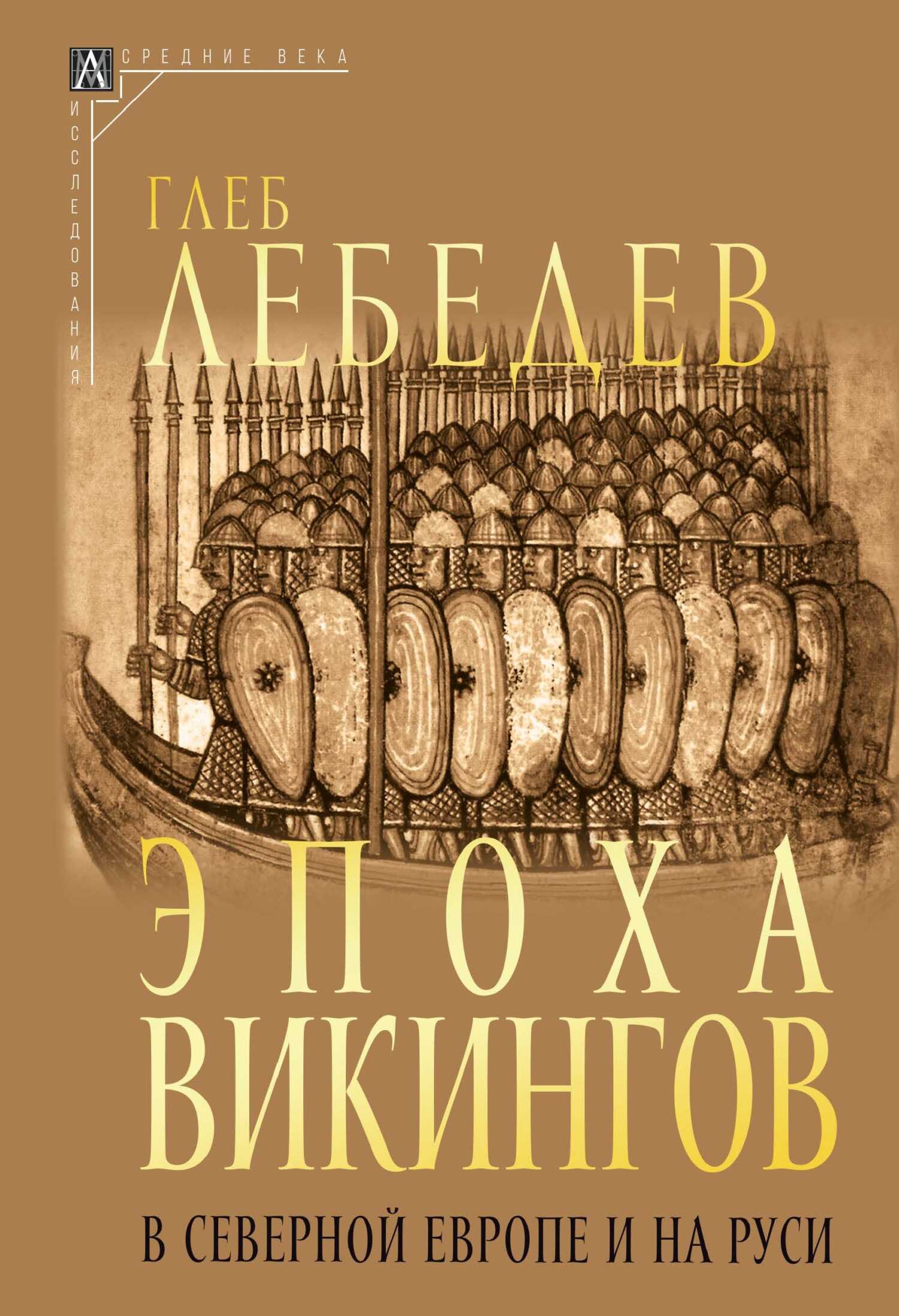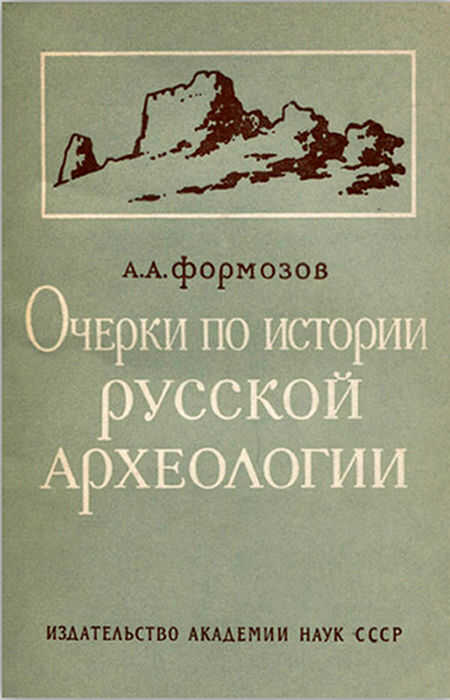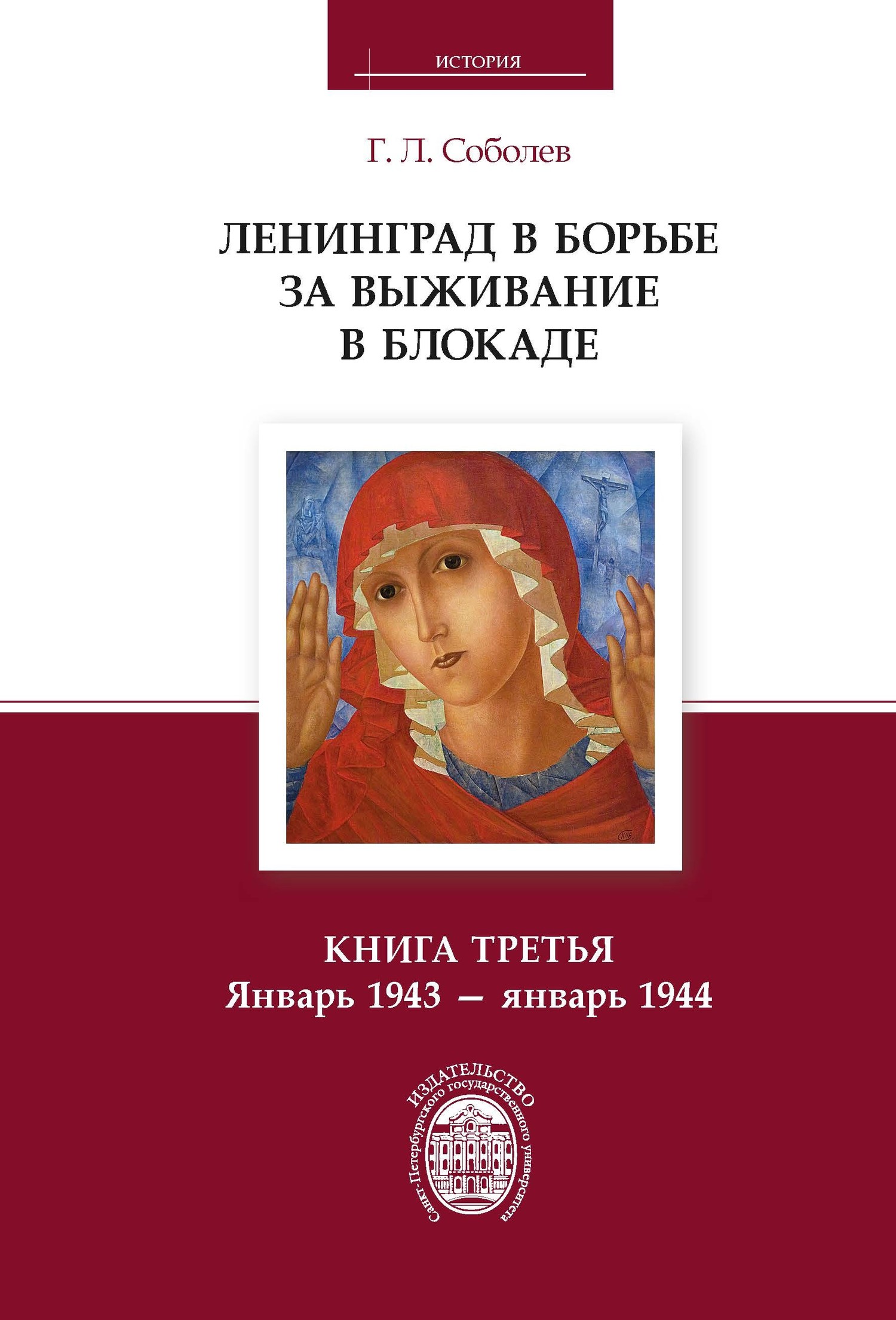Шрифт:
Закладка:
Исследование Г.С. Лебедева посвящено малоисследованной в российской исторической литературе теме – заключительному этапу перехода народов Европы от первобытнообщинного строя к классовому обществу. В ней рассматриваются основные этапы деятельности викингов в Западной Европе, показана несостоятельность норманистских построений западной историографии. Впервые на конкретных данных истории, археологии, нумизматики и языка раскрывается значение Древней Руси для внутреннего развития скандинавских стран, показано ведущее место Древнерусского государства в международных связях народов Балтийского региона, роль варягов в истории Киевской Руси IX-XI вв.Богатый иллюстративный материал, ясность и последовательность изложения мысли, равно как и увлекательное повествование, привлекут внимание не только специалистов – историков, археологов, этнографов, но и широкого круга читателей, для которых очевидна связь «проблемы викингов» и «варяжского вопроса» – ключевого вопроса русской истории.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.