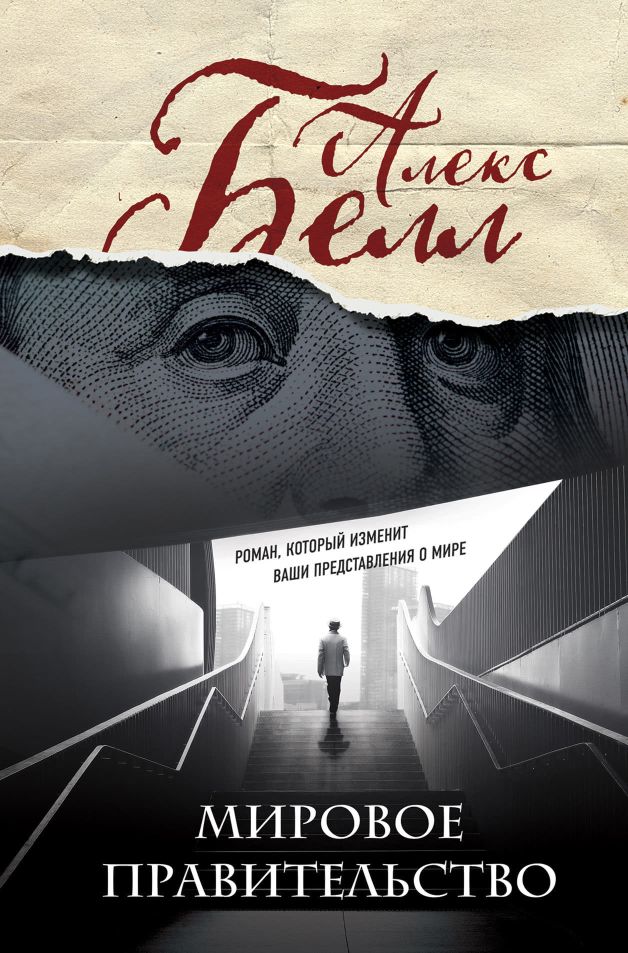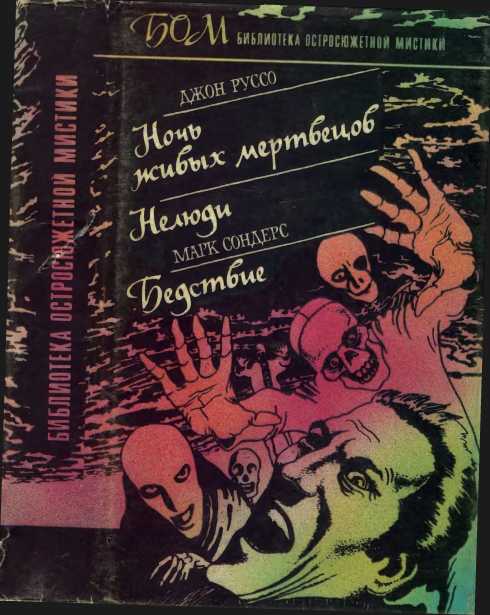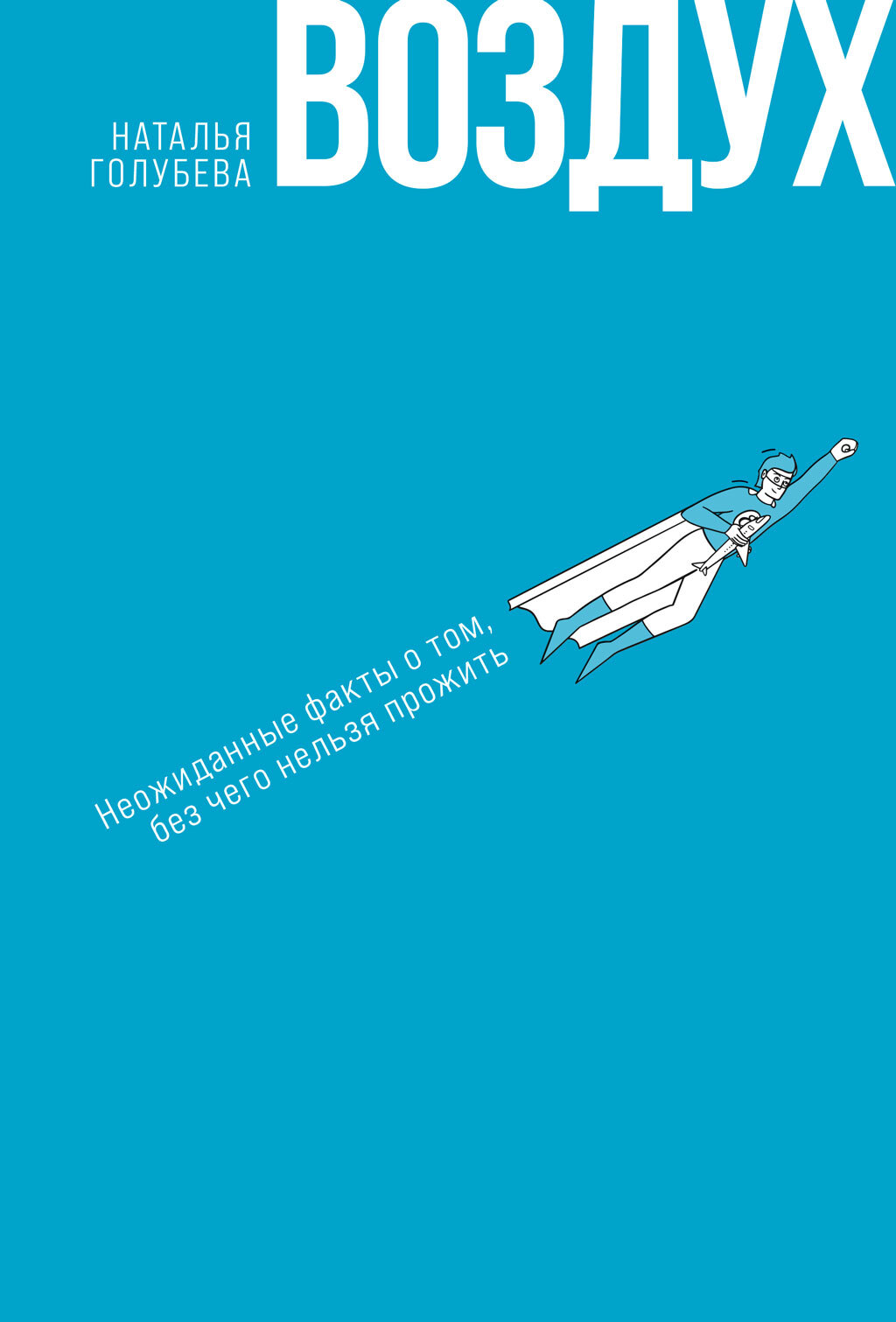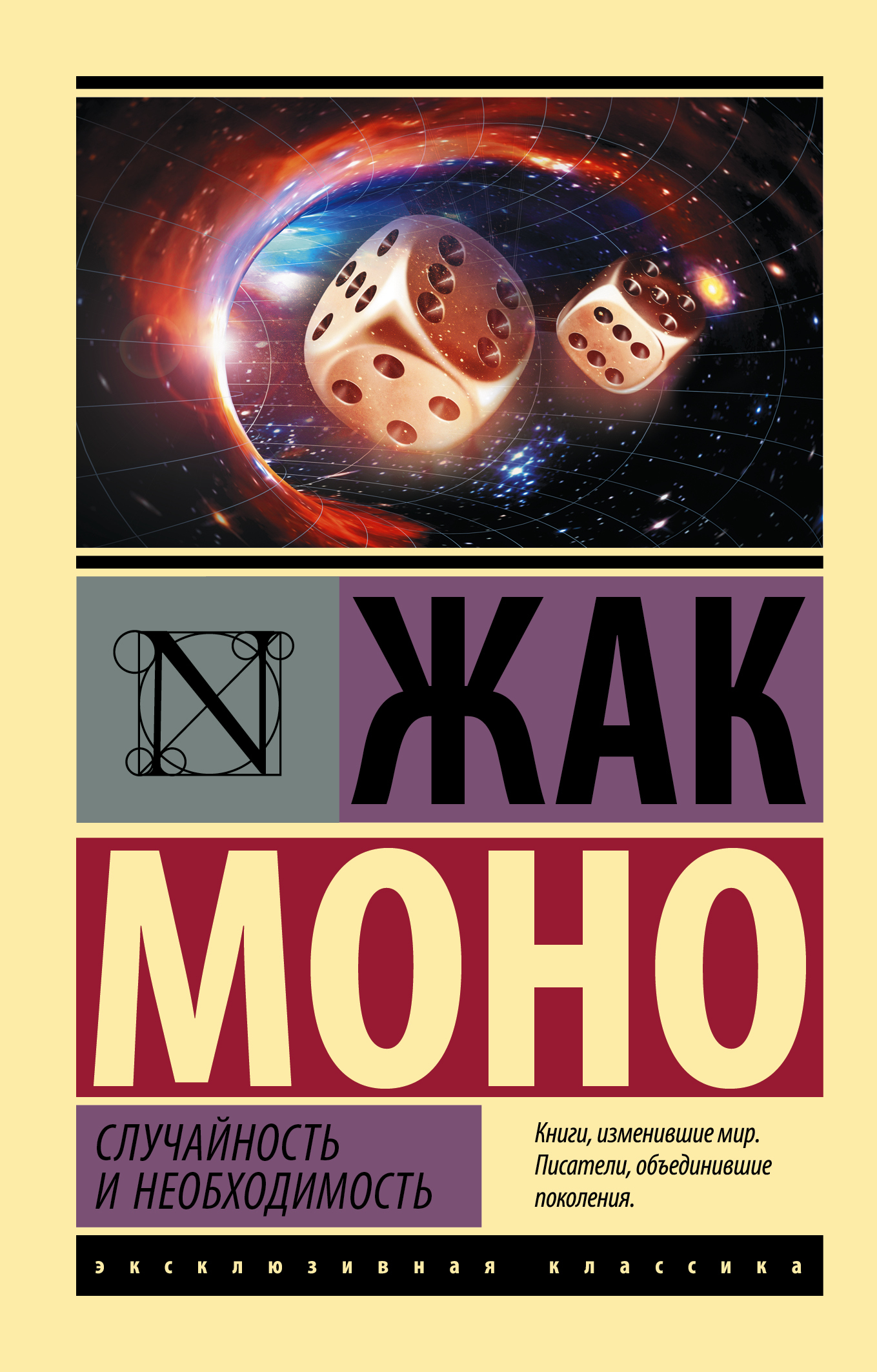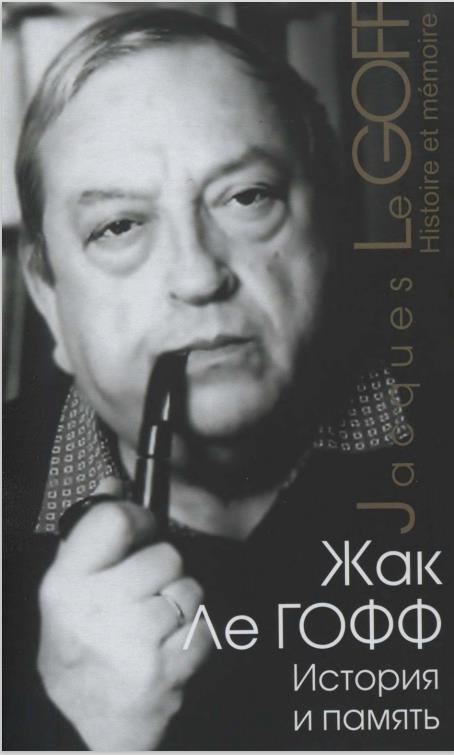Шрифт:
Закладка:
Чтобы расширить свой кругозор и понять окружающий мир, важно знать идеи, которые лежат в его основе. Но мало кто сможет найти достаточно времени, чтобы читать автобиографии гениальных людей.Эта книга – увлекательное путешествие во времени. Главный герой встречает 29 гениальных людей, чьи идеи и творчество изменили мир. Никола Тесла, Стив Джобс, Джон Леннон, Джон Рокфеллер и другие – автор говорит с ними о жизненных принципах, истории создания идей и проектов и простых радостях жизни.Вместе с автором вы побываете в доме у самого богатого человека в мире, поговорите о славе со свергнутым правителем в изгнании, увидите, как только что проигрался в рулетку знаменитый автор «Игрока». А главное – найдете в этой книге ответы на вопросы, которыми и сегодня задается каждый из нас.В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.