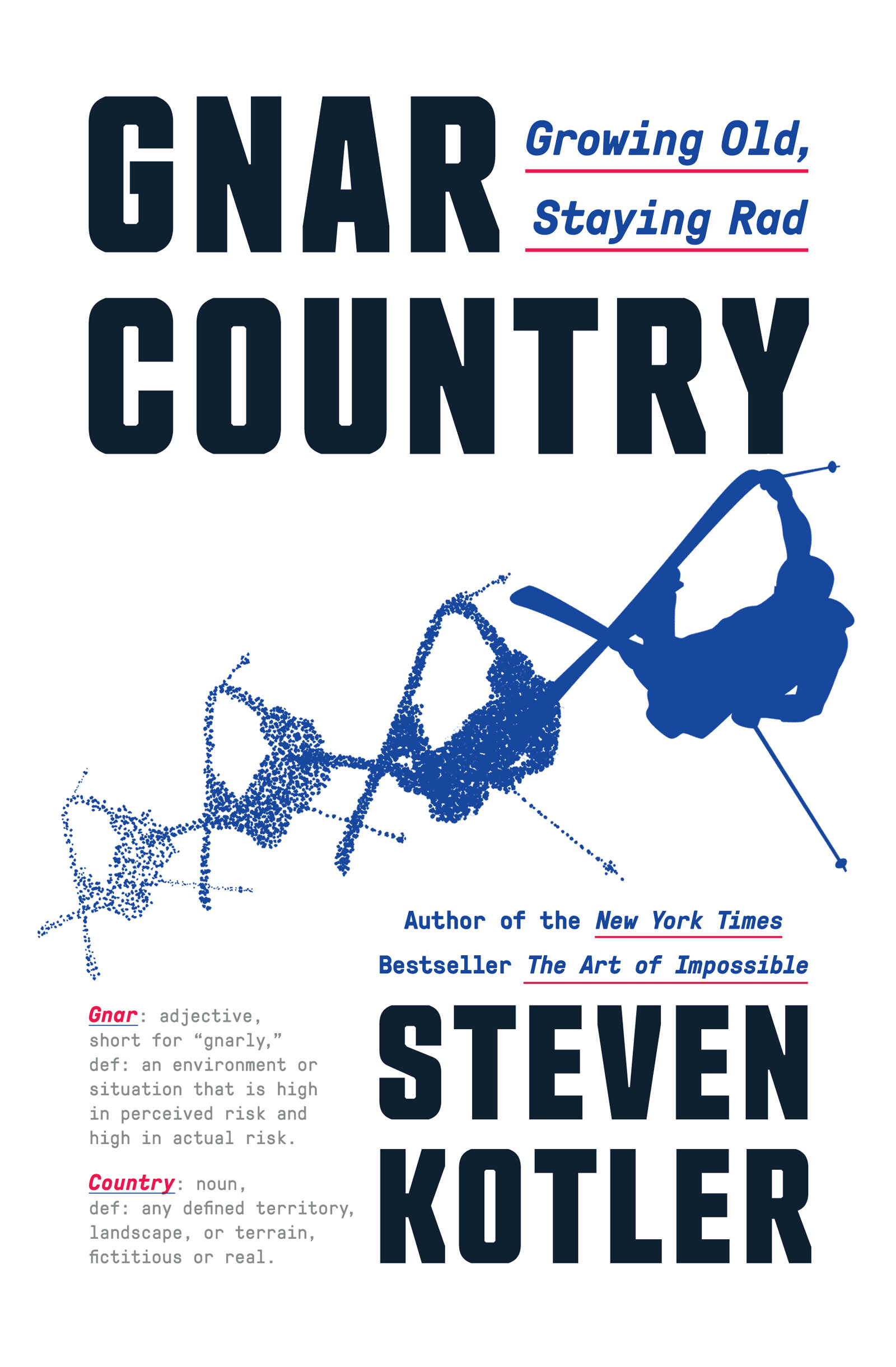Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Все начинается зимним утром, когда умерла Кэтрин Клэр. Весь день ее маленькая дочь провела с ней в доме. Вечером муж пришел домой, чтобы найти ее… Это становится историей их брака и тех, кто их окружает. Кого надо жалеть. Кого надо бояться.Детектив с убийством и захватывающий психологический триллер, готический роман и семейная драма, любовная история и исследование горя – мощная, тревожная и пугающая книга об отношениях мужчин и женщин, местных и приезжих, взрослых и детей, о жизни в маленьком городке, где все чем-то связаны.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Элизабет Брандейдж»: