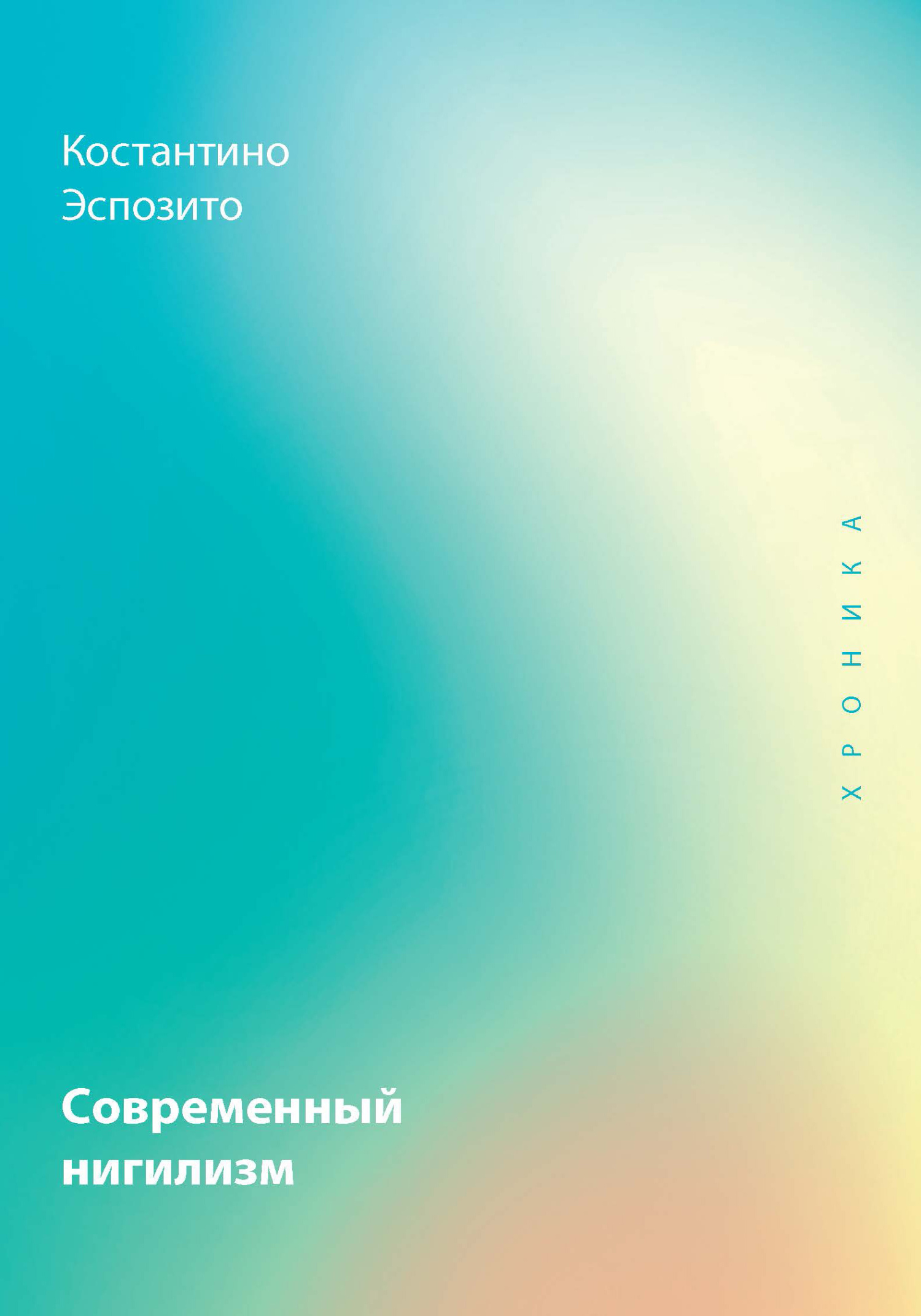Шрифт:
Закладка:
Противостояние мирового правительства с городом-государством Шанхаем окончено. Чтобы предотвратить ядерную войну, Организация стёрла мегаполис с лица земли, попутно убив два миллиона человек.Теперь враги Организации переходят в контратаку. Протесты охватывают всю планету. Конфликт с национальными государствами, не желающими подчиняться единому центру, переходит в критическую фазу.На фоне смертельной борьбы между ТНК, террористами, националистами и глобалистами, накануне всемирной гражданской войны – Ленро Авельц, некогда влиятельный политик, ныне ушедший в тень, возобновляет свой поход – за верховной властью над Организацией и всем миром. Он уверен, он – единственный, кто ещё способен спасти Землю и окончательно объединить человечество.Всю жизнь Авельц ждал своего часа: и теперь он пойдёт на всё. Некоторые считают, что даже смерть вряд ли его остановит.Содержит нецензурную брань.