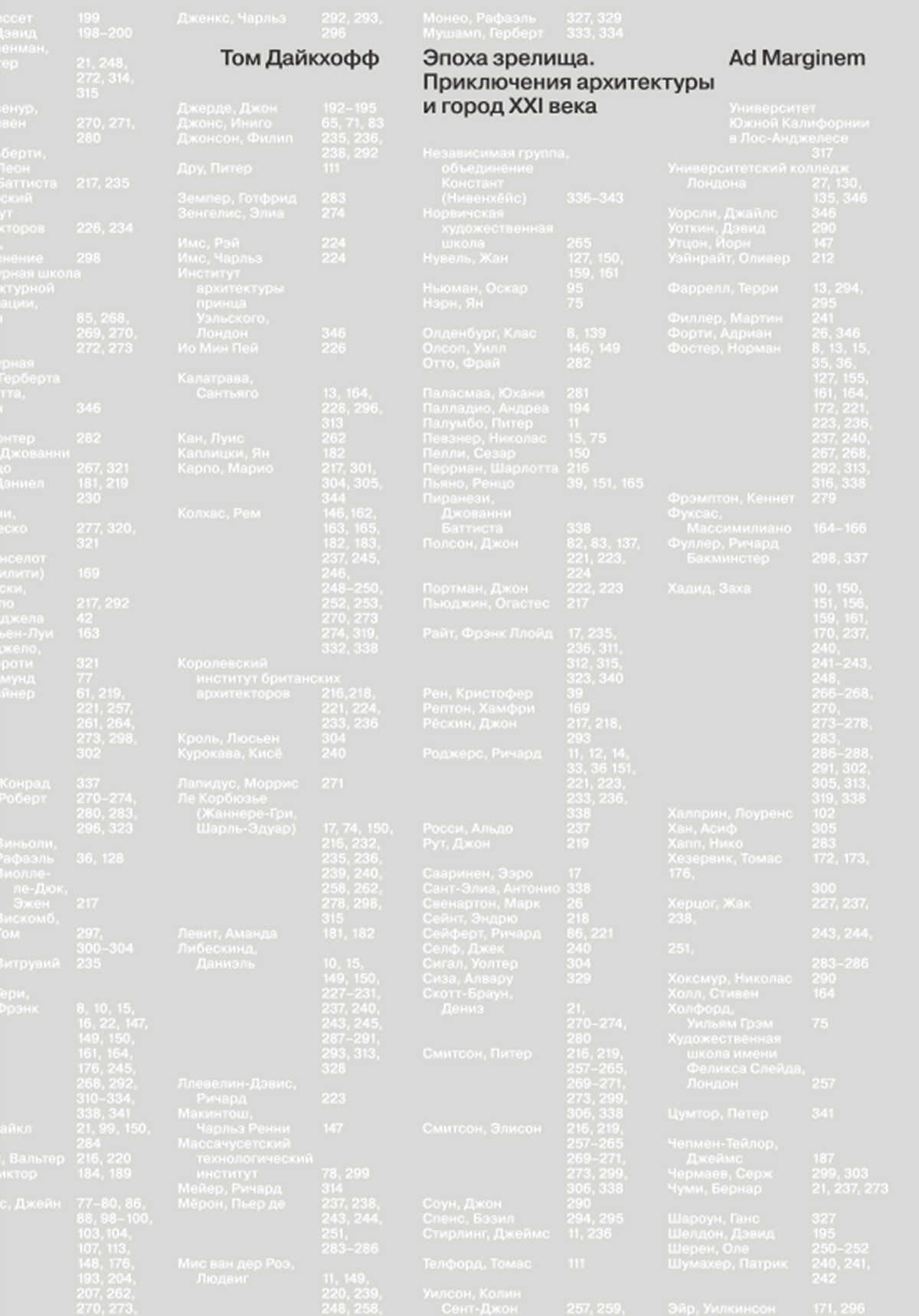Шрифт:
Закладка:
В Дубае роскошный жилой дом построен в форме гигантского iPod. В Пекине Херцог и де Мёрон возводят стадион «Птичье гнездо». В Цинциннати Захе Хадид платят миллионы за проектирование «знакового» здания в надежде на то, что она в одиночку изменит судьбу целого региона. «Cтархитекторы» соревнуются в проектировании всё более монументальных, эффектных и экстравагантных зданий, которые радикально преображают окружающий ландшафт: Музей Гуггенхайма в Бильбао Фрэнка Гери, «Огурчик» Нормана Фостера, Еврейский музей Даниэля Либескинда в Берлине… За последние пятьдесят лет в жизни наших городов произошла подлинная революция. Том Дайкхофф (род. 1971), британский критик архитектуры и урбанизма, рассказывает о ее ходе и результатах со знанием дела, размахом и юмором. Исследуя городские ландшафты от Нью-Йорка до Пекина, от Бильбао до Астаны, он показывает, что мы не просто являемся свидетелями появления зданий нового типа: мы живем в период фундаментальной трансформации того, как работают современные пространства в городах-предпринимателях.В формате a4.pdf сохранен издательский макет.