Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Юбилейное издание книги рассказов Василия Белова приурочено к семидесятипятилетию писателя. Читателя ждет новая встреча с известными произведениями, по праву признанными классикой отечественной литературы. Рассказы писателя занимают важное место в его творческой биографии. Их публикация — реальное подтверждение живой связи времен, к которой стремится Художник в своих сочинениях, отражающих проникновенный диалог между поколениями.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Василий Иванович Белов»:


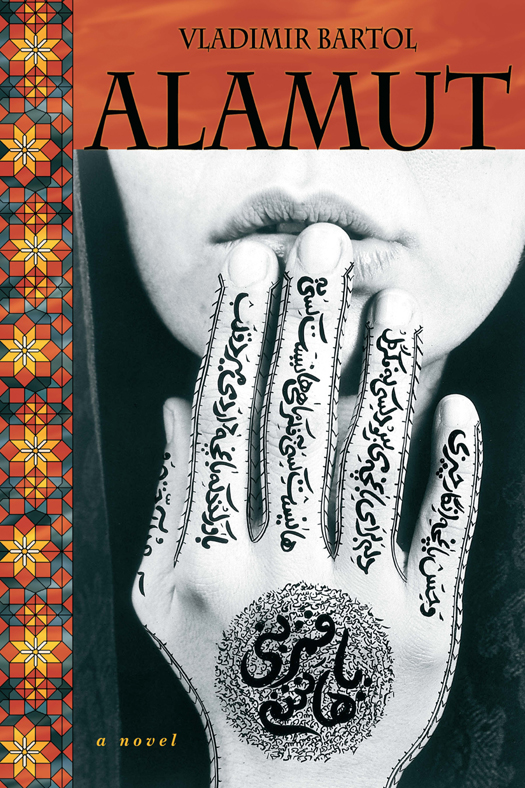

![Как стать злодеем [СИ] - Братислав Байдалин](/uploads/posts/books/13759/13759.jpg)
