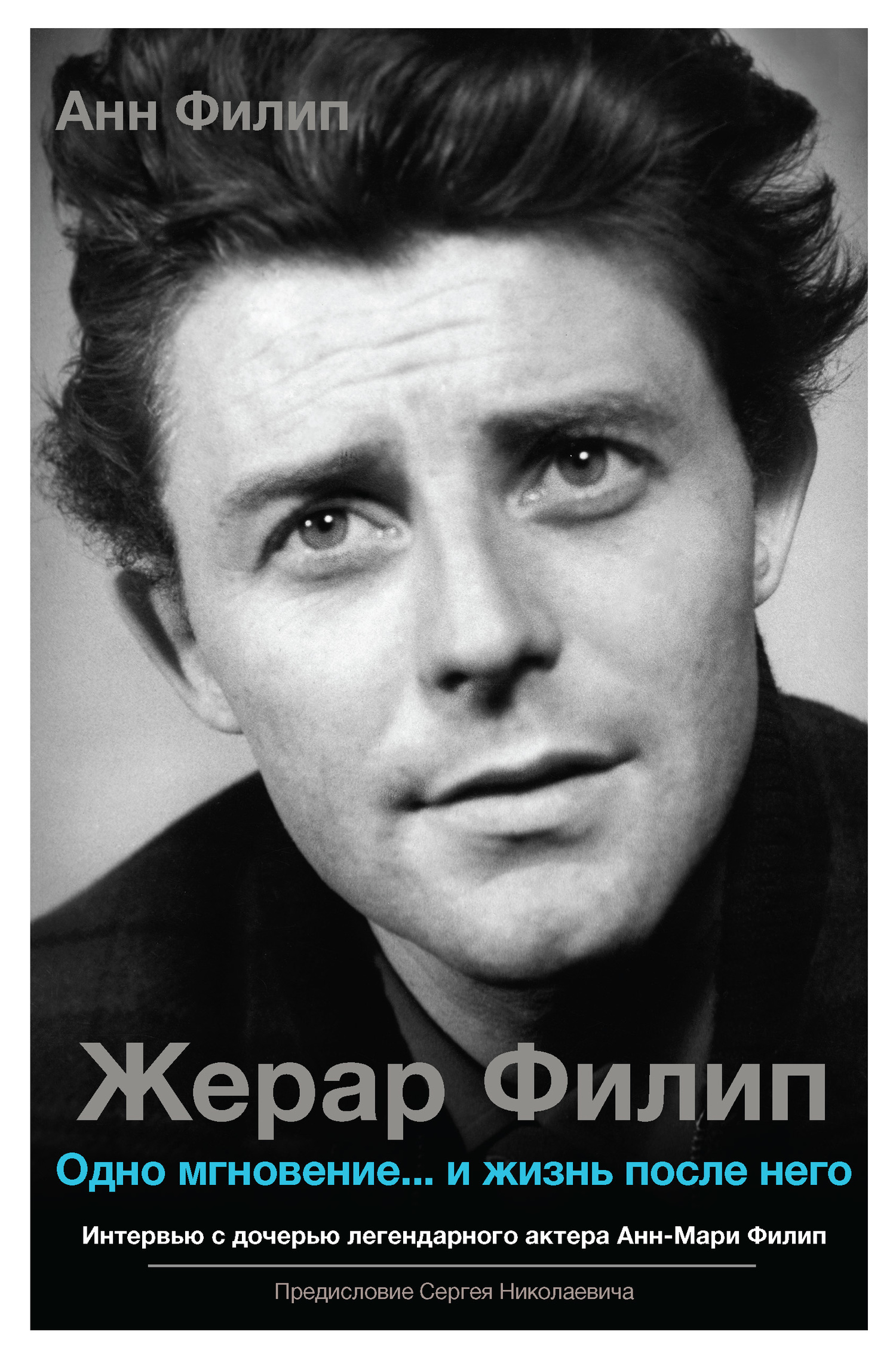Шрифт:
Закладка:
Мет вмещает примерно три тысячи пятьсот зрителей. Были раскуплены даже билеты на стоячие места. В то время в США не было другой площадки, сопоставимой с Метрополитен-опера, где мы сыграли два представления с аншлагом. Мы с Бобом диву давались: ничто, казалось бы, не предвещало столь грандиозного всплеска интереса к его творчеству или моей музыке. Ни у меня, ни у Боба не было команды промоутеров, которые приближали бы наш успех; насколько мы знали, не было никакого «попутного ветра». Да, на спектакли пришла примерно тысяча завсегдатаев Нижнего Манхэттена, но, насколько мне показалось, зрители, заполнившие зал Мет, были из самых разных районов Нью-Йорка.
Как только мы сыграли два спектакля в Мет (второй состоялся 28 ноября 1976 года), Нинон пригласила нас в свою квартиру на Ист-Сайд и уведомила, что, невзирая на громадный успех, убыток от гастролей «Эйнштейна» составил сто тысяч долларов. Мы с Бобом, естественно, испытали настоящий шок. Мы даже не подозревали о факте, который известен в оперном мире всем: оперные постановки убыточны. Да, мы были настолько наивны. Не ведали, что ни один оперный театр — ни в Париже, ни в Лондоне, ни в Москве, ни в Нью-Йорке — не окупается. Год от года, весь год напролет предпринимаются колоссальные усилия по привлечению спонсоров, которые заткнули бы дыры в смете театров. Взять, например, Германию: несколькими годами позже мы играли в Штуттгарте, и, если я правильно помню, мне сказали, что каждое место в зале субсидируется (кажется, на одно место приходилось восемьдесят немецких марок). Мы не сознавали, что и в свой первый вечер в Мет, и на втором представлении через неделю тоже выйдем в минус. В тот период «Эйнштейн» был сыгран тридцать пять раз, в залах, где не было ни одного свободного места, и все равно за время гастролей мы влезли в долги.
Мы оба воскликнули:
— Нинон, как это случилось? Как ты могла подложить нам такую свинью?
Она держалась спокойно и явно ни в чем не раскаивалась. Когда мы немного оправились от шока, она сказала без обиняков:
— Послушайте, вы оба были совершенно безвестны, а я знала, что люди должны увидеть «Эйнштейна». У меня не было выбора. Я организовала все представления ниже себестоимости, и каждый вечер вы терпели убытки. Не очень большие: каждый вечер набегало, наверно, по две-три тысячи. За четыре месяца накопилась крупная сумма. Я знала, что в конце гастролей на вас повиснет долг, но я также знала, что эти гастроли гарантируют вам дальнейшую карьеру. Вам обоим.
В итоге Нинон оказалась права. Но мы все же столкнулись с безотлагательной проблемой. Чтобы ее устранить, принялись распродавать все, что удавалось: рисунки, партитуры, аппаратуру — все сразу. Несколько наших друзей-художников провели аукцион для сбора денег, но задолженность за «Эйнштейна» лежала на нас несколько лет.
Позднее Боб работал в Европе, ставил театральные спектакли по всему миру. Я остался в Нью-Йорке и продолжал работу, но теперь в качестве «преуспевающего» оперного композитора, которому пришлось еще два года водить такси. Ни Боба, ни меня не интересовало партнерство между режиссером и композитором наподобие знаменитых творческих дуэтов (Брехта и Вайля, Роджерса и Хаммерстайна, Лернера и Лоу и т. п). Так или иначе, в оперном мире подобное партнерство — строго говоря, деловое предприятие — практиковалось не столь часто. Мы с Бобом продолжили сотрудничество на иных началах. Каждые шесть-восемь лет мы делали что-то вместе, а в интервалах сотрудничали с кем-то еще. В следующий раз мы поработали вместе в 1984-м, когда я был в числе шести композиторов, работавших с Бобом на его проекте CIVIL warS: A Tree is Best Measured When It Is Down («ГРАЖДАНСКИЕ войнЫ: Дерево лучше всего измерять, когда оно повалено»). Я написал две части — «Рим» и «Кёльн». Возобновляя сотрудничество после долгих промежутков, мы снова встречались, принося с собой новый опыт и разработанные самостоятельно идеи. Так появились некоторые из моих любимых вещей, сделанных вместе с Бобом: White Raven («Белый ворон») и Monsters of Grace («Чудовища милости»)[56].
Я всегда рассматривал «Эйнштейна» как завершение творческого цикла, который начался с крайне редуктивной, репетитивной музыки, характерными примерами которой были ранние сочинения для моего ансамбля, — периода, начавшегося для меня всерьез в 1969-м, с «Музыки в квинтах» и «Музыки в сходном движении». Потому-то музыка к «Эйнштейну» изумляла меня не так сильно, как те ранние вещи, когда я сам дивился, что пишу музыку, в которой столько энергии, столько дисциплины, столько мощи. Я подпитывался собственной музыкой: был подключен к некой энергосистеме, подобной вихрю, и «Эйнштейн» стал финальной стадией ее развития.
Начиная с 1965 года, время переполнилось звуком нового музыкального языка, который роднил меня с некоторыми другими композиторами моего поколения, — звуком, который был достаточно широким по охвату и достаточно насыщенным по своей актуальности, чтобы с его помощью можно было самовыражаться в музыке самыми разными способами. На этой основе несколько поколений композиторов смогли развить целую гамму глубоко-индивидуальных стилей, что позволяет нынешнему поколению молодых творцов столь уютно сосуществовать в мире новой музыки, многообразном и неортодоксальном, где средства выражения — акустические, электронные, — а также различные формы глобальной и автохтонной музыки, равноправны и равноценны. Мое поколение, те, вместе с кем я достиг зрелости в 60-х, поневоле испытывало на себе диктат иного, старого взгляда на будущее музыки — узкого, нетерпимого подхода. Полагаю, этот вид эстетической тирании остался в прошлом (по крайней мере, на данный момент).
«Эйнштейн на пляже» подвел для меня