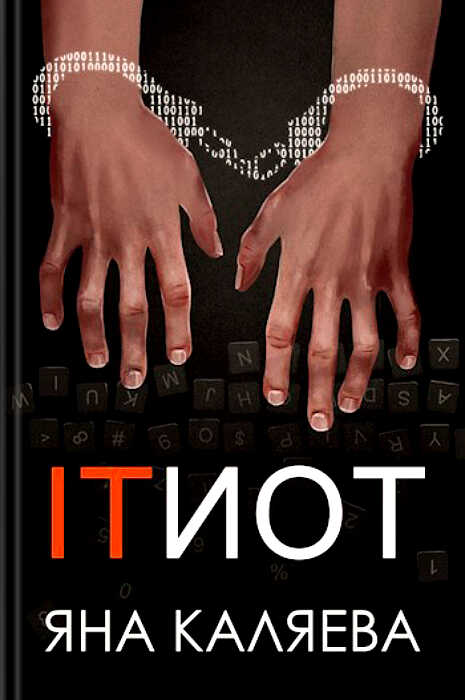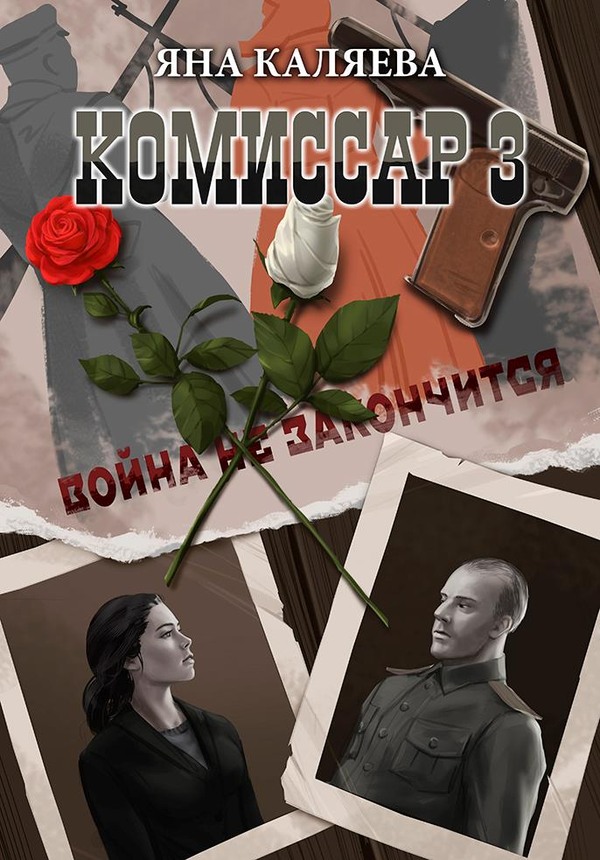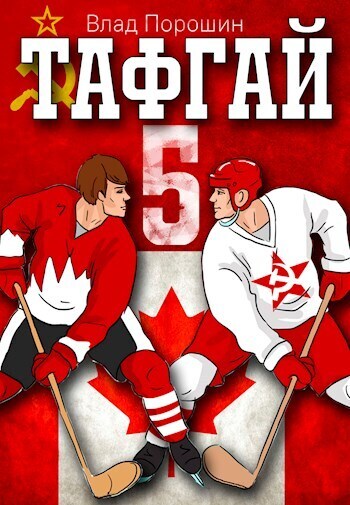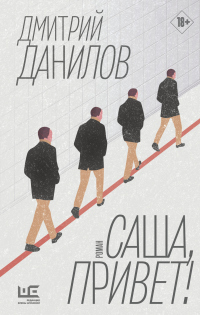Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Войну невозможно закончить — и войну необходимо закончить. Завершающий том трилогии, где все придут туда, куда шли, близкие воссоединятся после долгой разлуки, а гражданская война закончится. От автора: Книгу можно прочитать бесплатно, для этого достаточно написать автору личное сообщение. Причины объяснять не нужно. Над книгой работали: Исторический консультант — Р. С. Мосол. Редактор — Юлия Халфина. Обложка — Салихов Василь. Автор благодарит за помощь в работе над книгой Павла Степаненко, Александра Марьясова, Маргариту Антонову и Михаила Безрукова, а также Романа Бобкова, Zampolit и всех участников второго потока семинара «Дикая литература».
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Яна Каляева»: