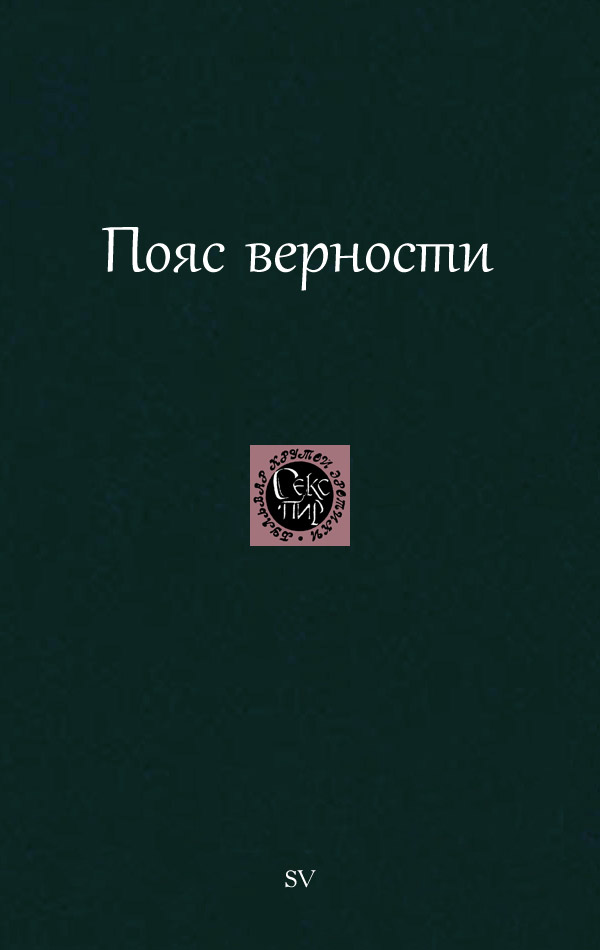Шрифт:
Закладка:
Адольфо Бьой Касарес (1914–1999) – блестящий аргентинский писатель, классик латиноамериканской прозы, один из ярких представителей так называемой великой аргентинской троицы, в которую входили также Хорхе Луис Борхес, с которым Бьой Касареса связывали многолетняя дружба и совместные литературные проекты, и Хулио Кортасар. Самый известный роман Бьой Касареса «Изобретение Мореля», породивший множество подражаний, в том числе и в кино, считается исключительным явлением в литературе. Борхес называл его идеальным, Маркес, Кортасар и Станислав Лем признавали, что он повлиял на их творчество.В сборнике представлены три произведения Бьой Касареса – «Изобретение Мореля», «Сон про героев» и «План побега», каждое из которых может служить образцом писательского мастерства.