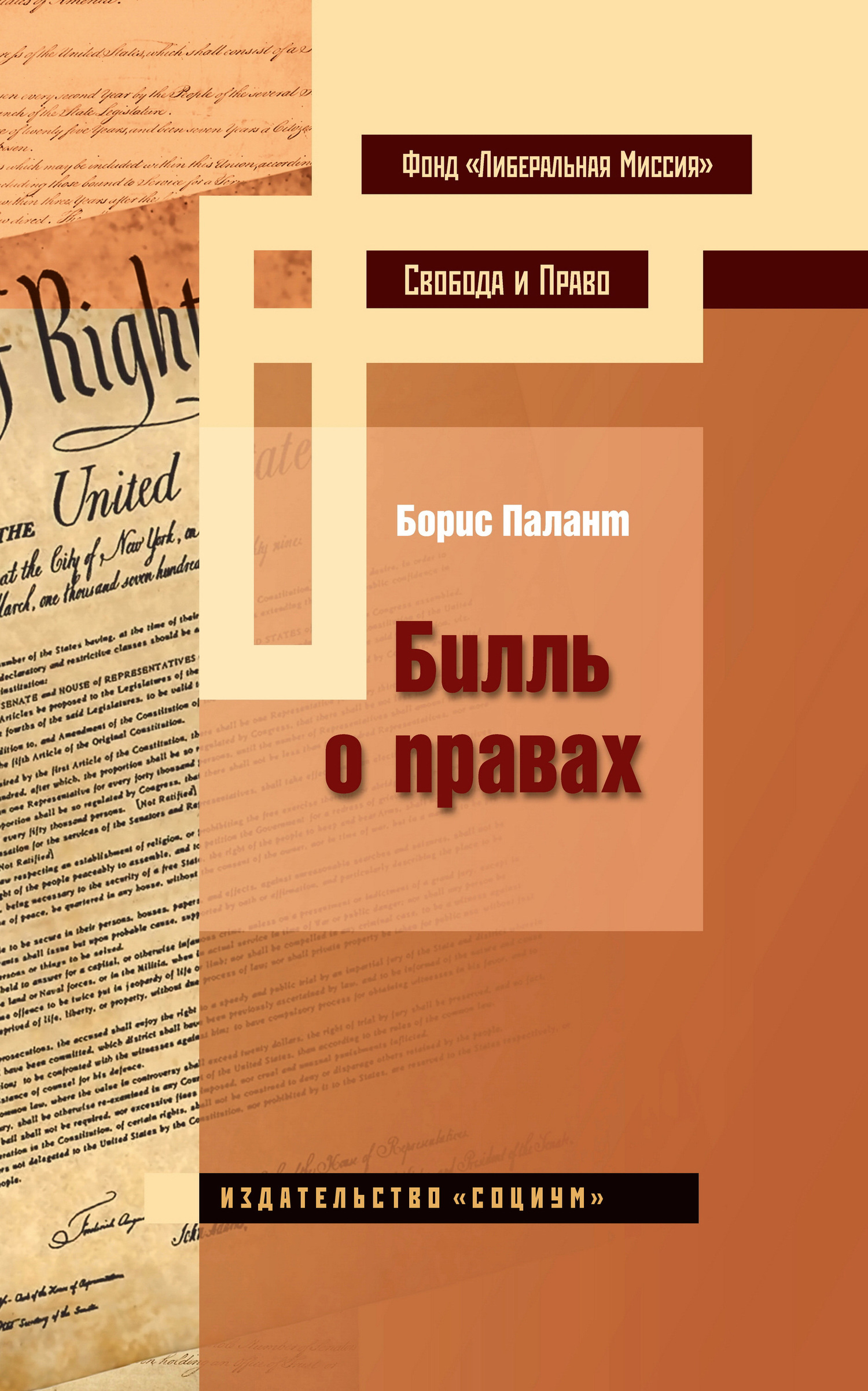Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Ныне, во избежание всяких недоразумений, автор заранее уведомляет, что "Принцесса Брамбилла", как и "Крошка Цахес", – книга совершенно непригодная для людей, которые всё принимают всерьёз и торжественно; однако он покорнейше просит благосклонного читателя, буде тот обнаружит искреннее желание и готовность отбросить на несколько часов серьёзность, отдаться задорной, причудливой игре". (Э.Т.А. Гофман, "Принцесса Брамбилла)
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Евгений Юрьевич Угрюмов»: