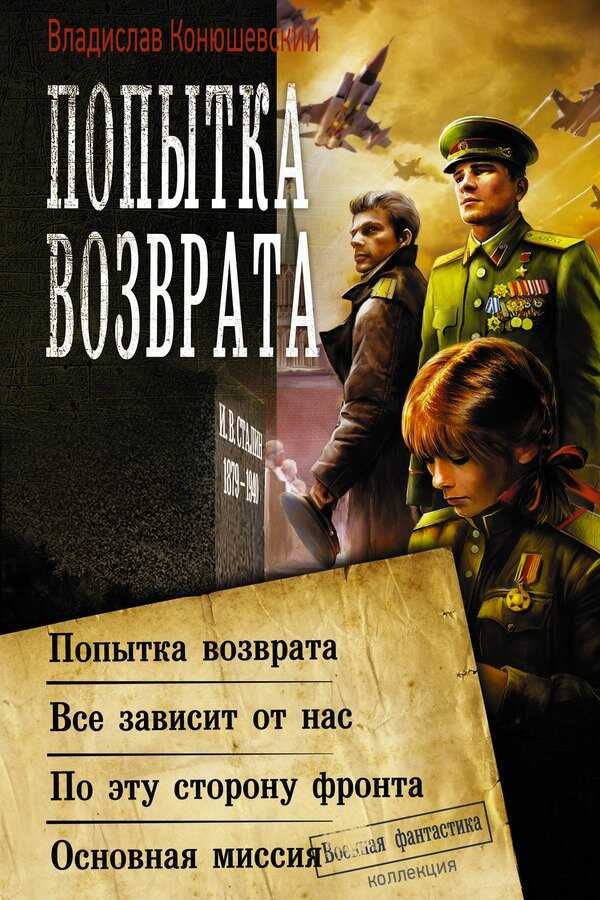Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Фельетоны известного писателя-сатирика правдиста Ильи Шатуновского давно полюбились читателям. Написанные на злобу дня, они откликаются на жгучие проблемы нашей жизни, бичуют бюрократов, бездельников, пьяниц, всех тех, кто мешает нам нормально жить и работать. В этой книжке собраны лучшие из фельетонов Ильи Шатуновского. Кроме фельетонов, в книжке впервые публикуются цикл военных рассказов автора, очерки о его поездках в зарубежные страны, воспоминания о выдающихся сатириках «Правды», беседы о трудной работе редакционного фельетониста.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Илья Миронович Шатуновский»: