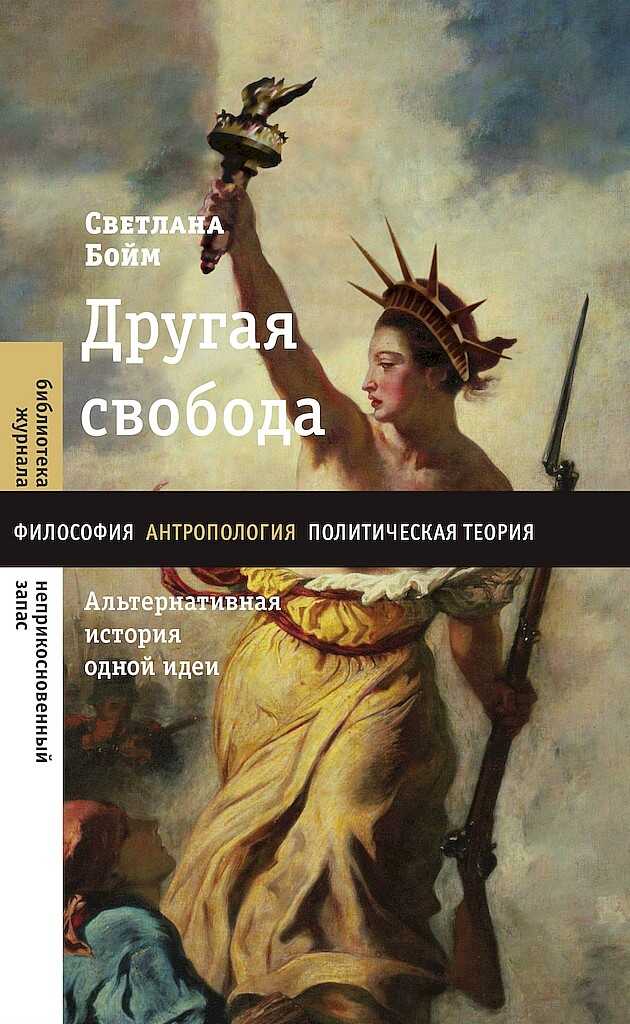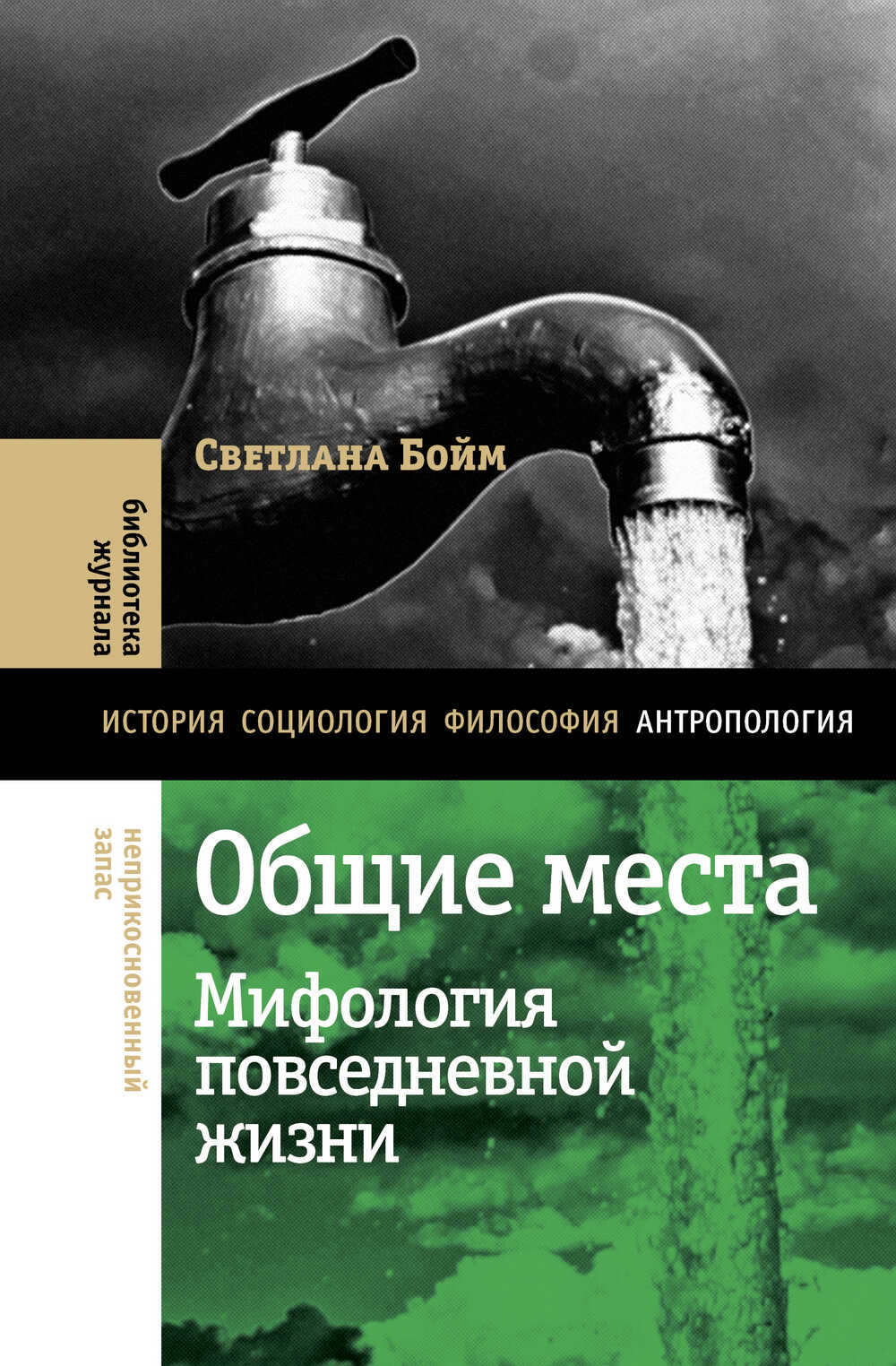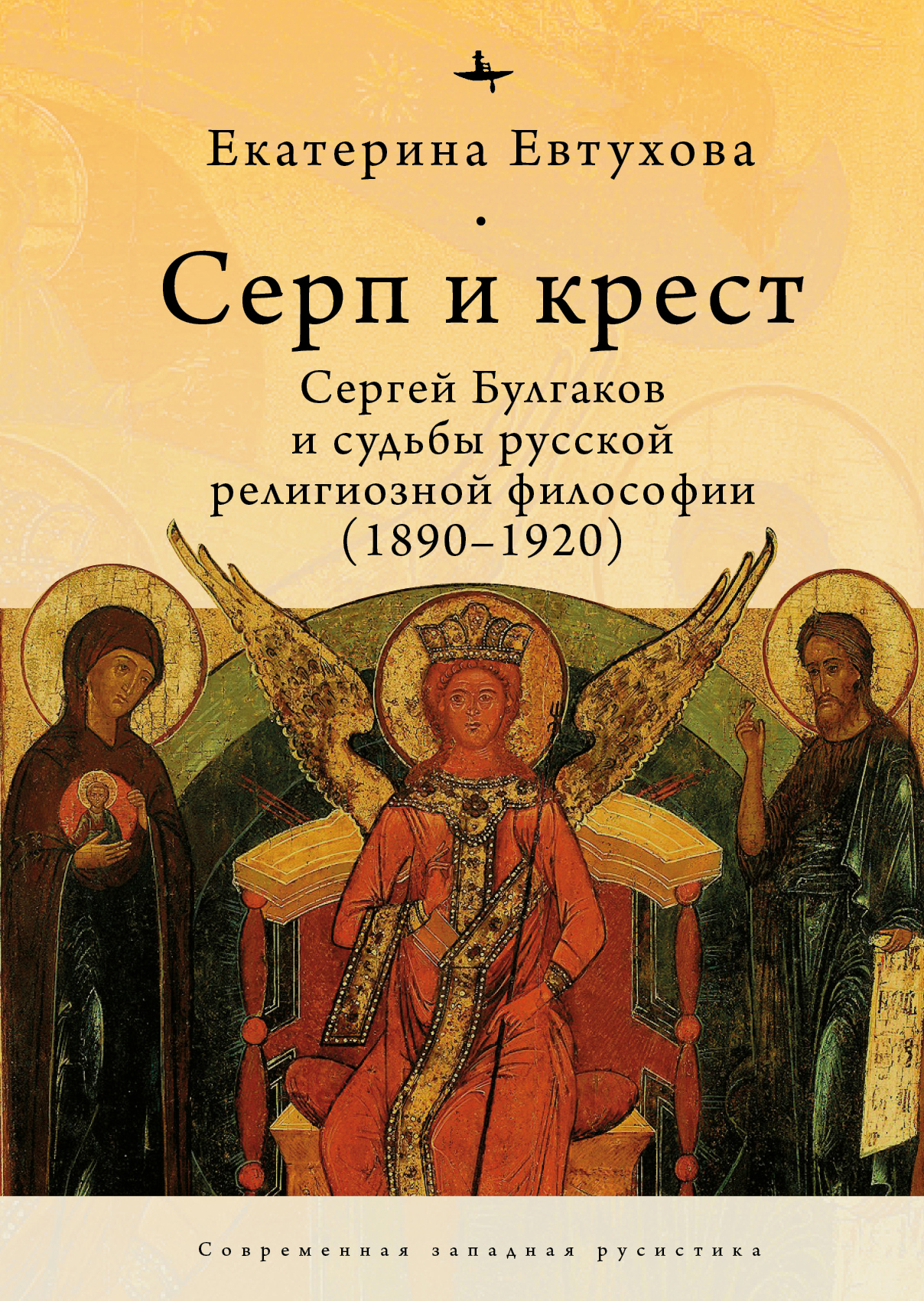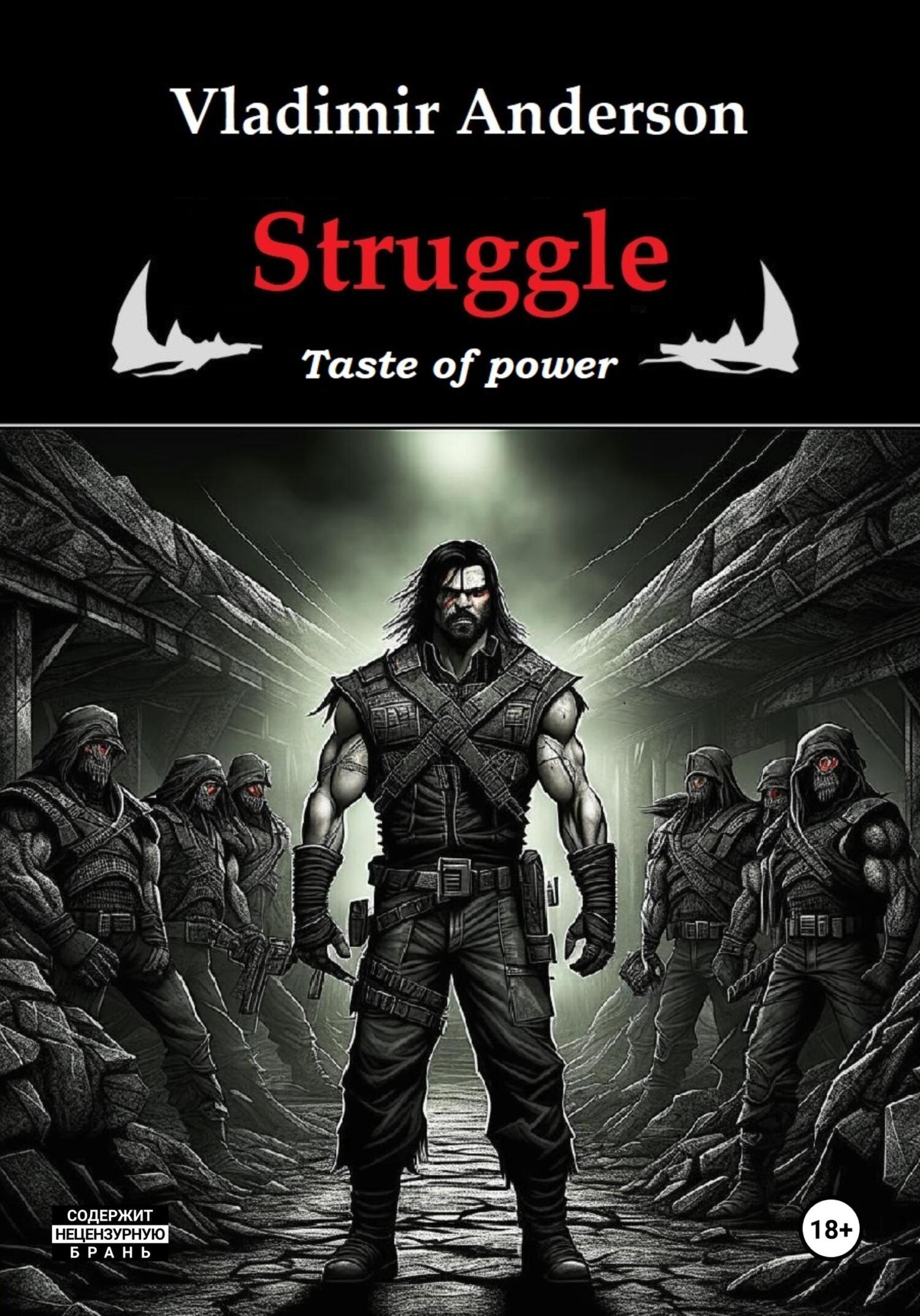Шрифт:
Закладка:
Слово «свобода» употребляется столь часто, и им так нещадно злоупотребляют, что оно рискует превратиться в заезженный штамп. В книге «Другая свобода» антрополог и теоретик культуры Светлана Бойм (1959–2015) предлагает свежий взгляд на это фундаментальное понятие. Исследуя богатую кросс-культурную историю идеи от античности и до сегодняшнего дня, Бойм утверждает, что наши попытки постижения феномена свободы не следует ограничивать вопросом: «Что есть свобода?», но они обязательно должны включать в себя и вопрошание: «Что могло бы стать свободой?». Начиная с анализа становления политики и искусства как публичной сферы, Бойм постепенно расширяет поле исследования, рассматривая взаимосвязи между свободой и освобождением, современностью и террором, политическим инакомыслием и творческим остранением. Подробно прослеживая сложную и противоречивую эволюцию идеи, автор собирает под одной обложкой мыслителей, которых при всем несходстве их интеллектуальных построений объединяет страстная приверженность концепции свободы. В книге соседствуют Эсхил и Еврипид, Кафка и Мандельштам, Арендт и Хайдеггер, а также Достоевский и Маркс, вступающие в виртуальную беседу на улицах Парижа.