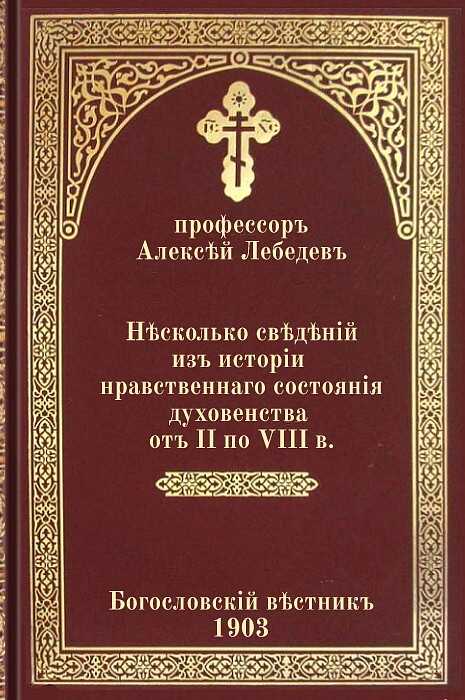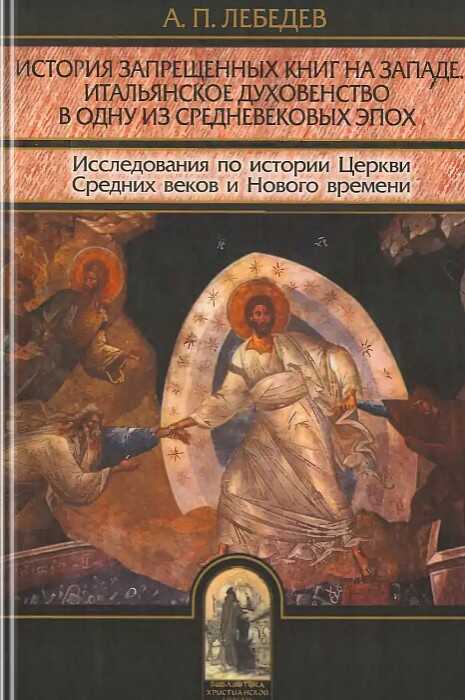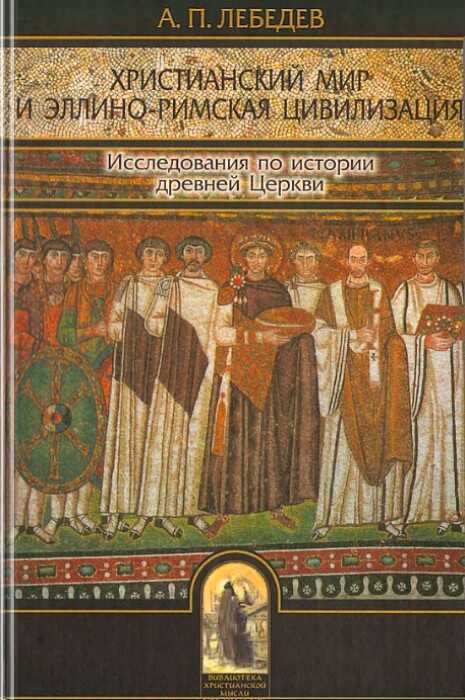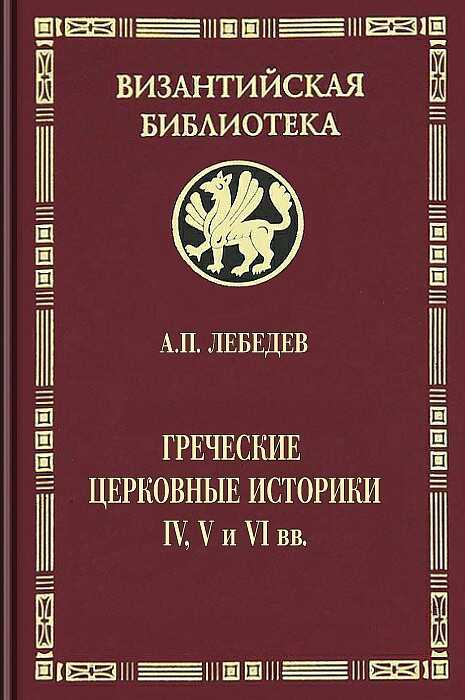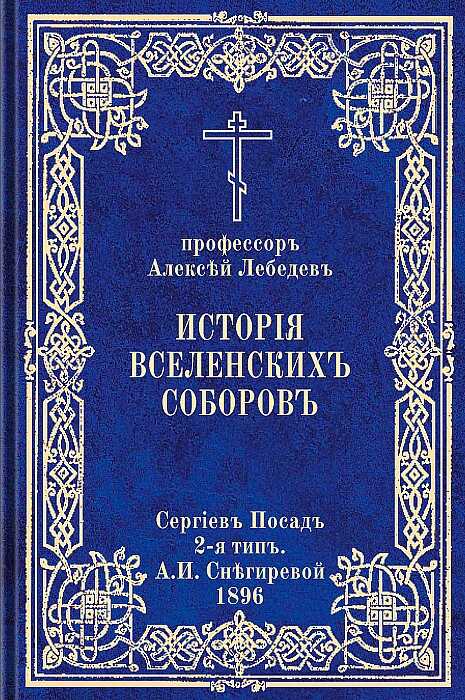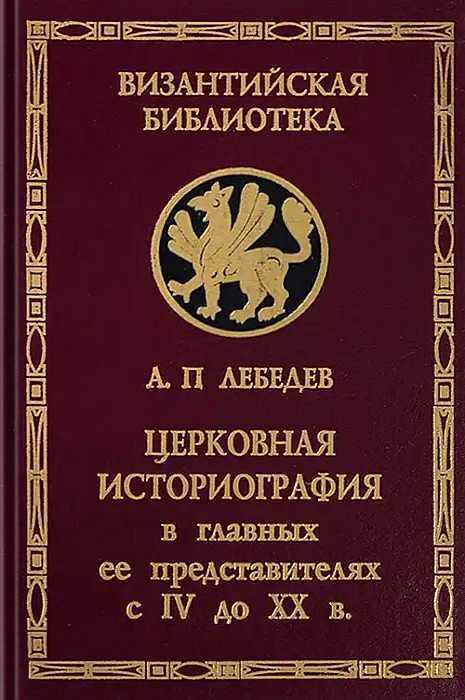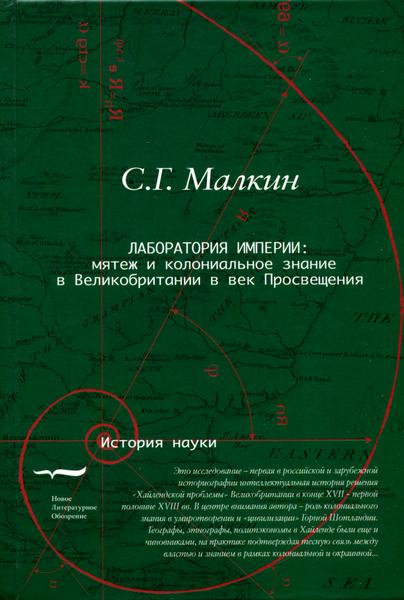Шрифт:
Закладка:
В очередной том церковно-исторических сочинений выдающегося русского историка Церкви, профессора Московской Духовной академии, заслуженного профессора Московского университета Алексея Петровича Лебедева (1845–1908) под общим названием «История запрещенных книг на Западе. Итальянское духовенство в одну из средневековых эпох» вошли исследования и статьи по истории Церкви Средних веков и Нового времени. Основные темы сборника: история запрещенных книг от древнейших времен до конца XIX в., знаменитый папский «Вселенский» собор 1870 г., принявший догмат о непогрешимости римского папы, нравы итальянского и греческого духовенства в Средние века и в Новое время, состояние немецкой богословской науки на примере Тюбингенской школы и многое другое. Как всегда, работы А. П. Лебедева написаны просто и убедительно, хорошим русским языком и с присущим знаменитому ученому чувством юмора. Книга рассчитана как на специалистов, так и на самый широкий круг любителей церковной истории. Электронная версия текста представлена на сайте azbyka.ru.