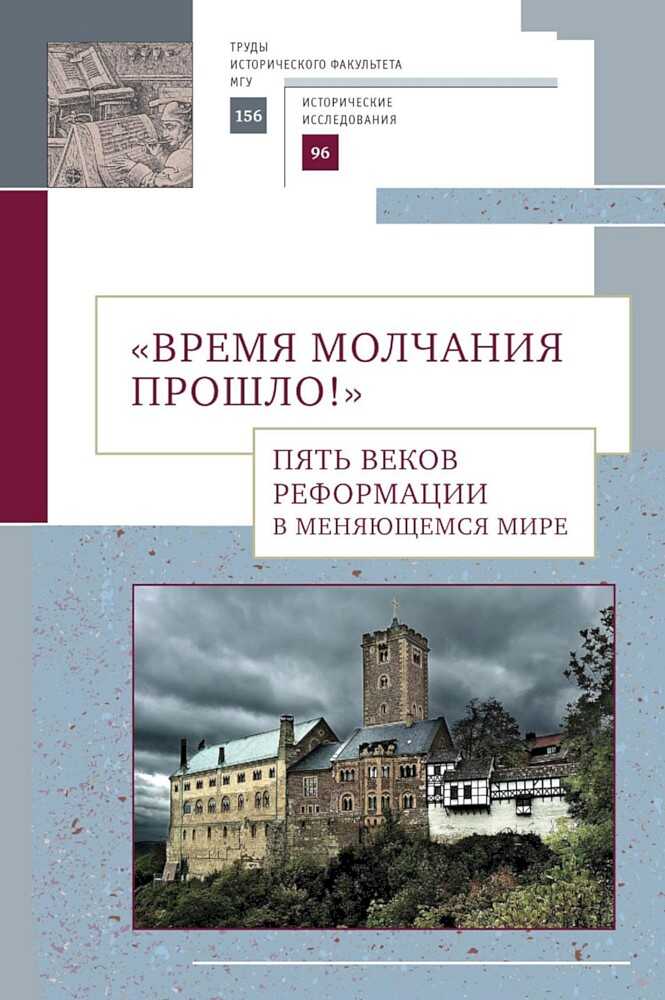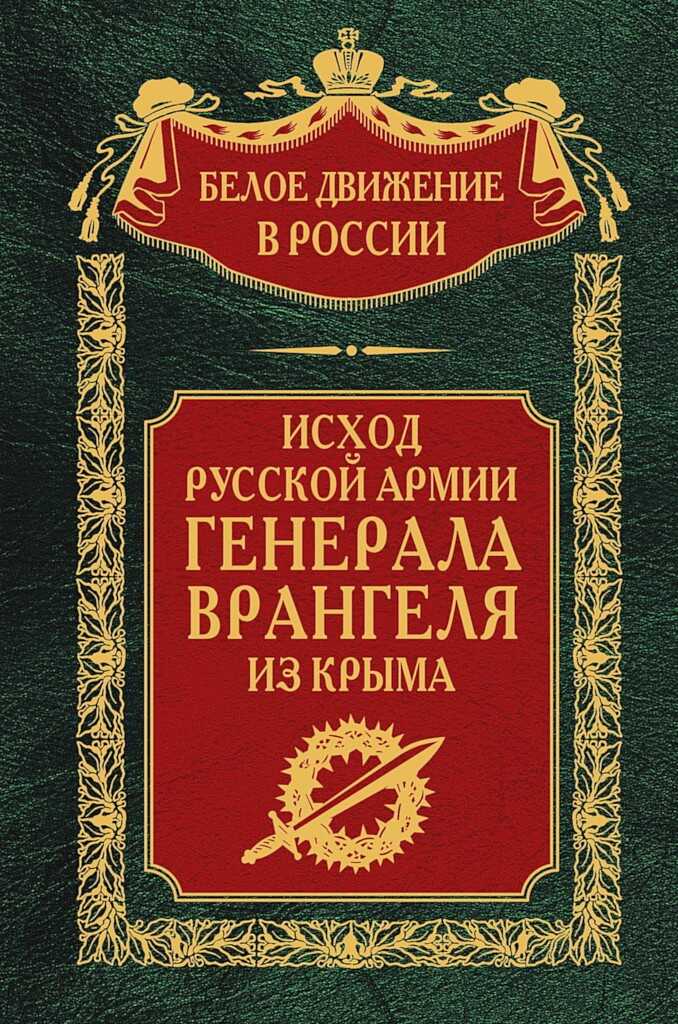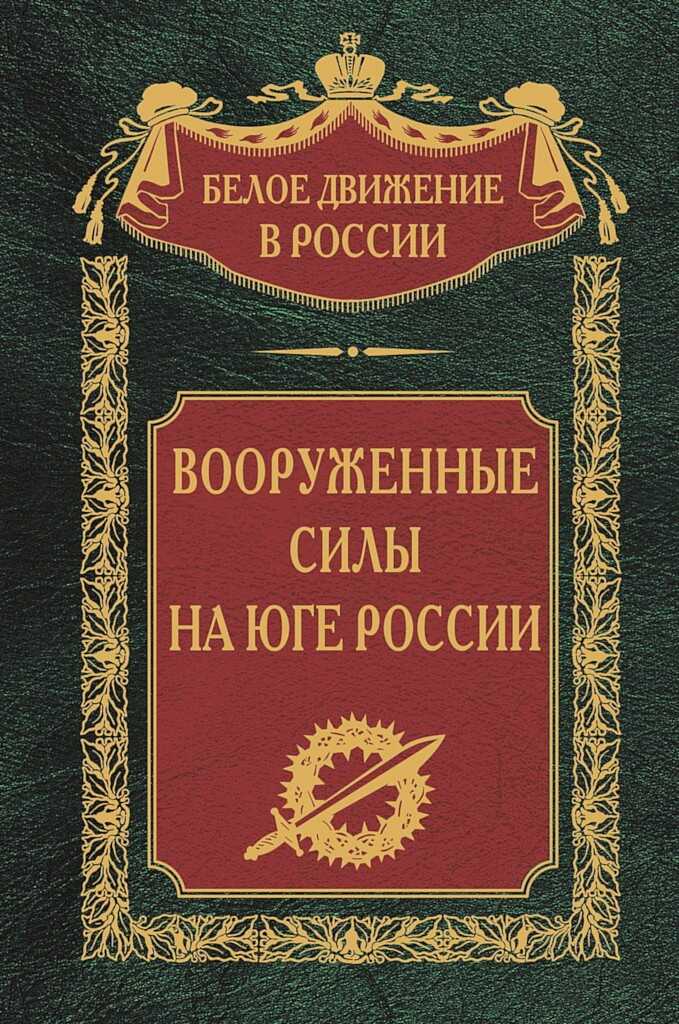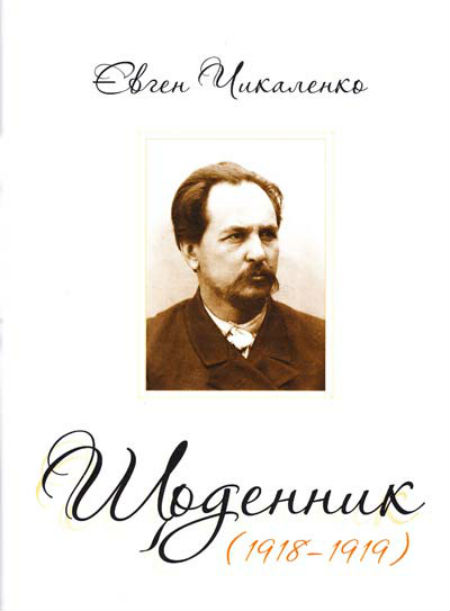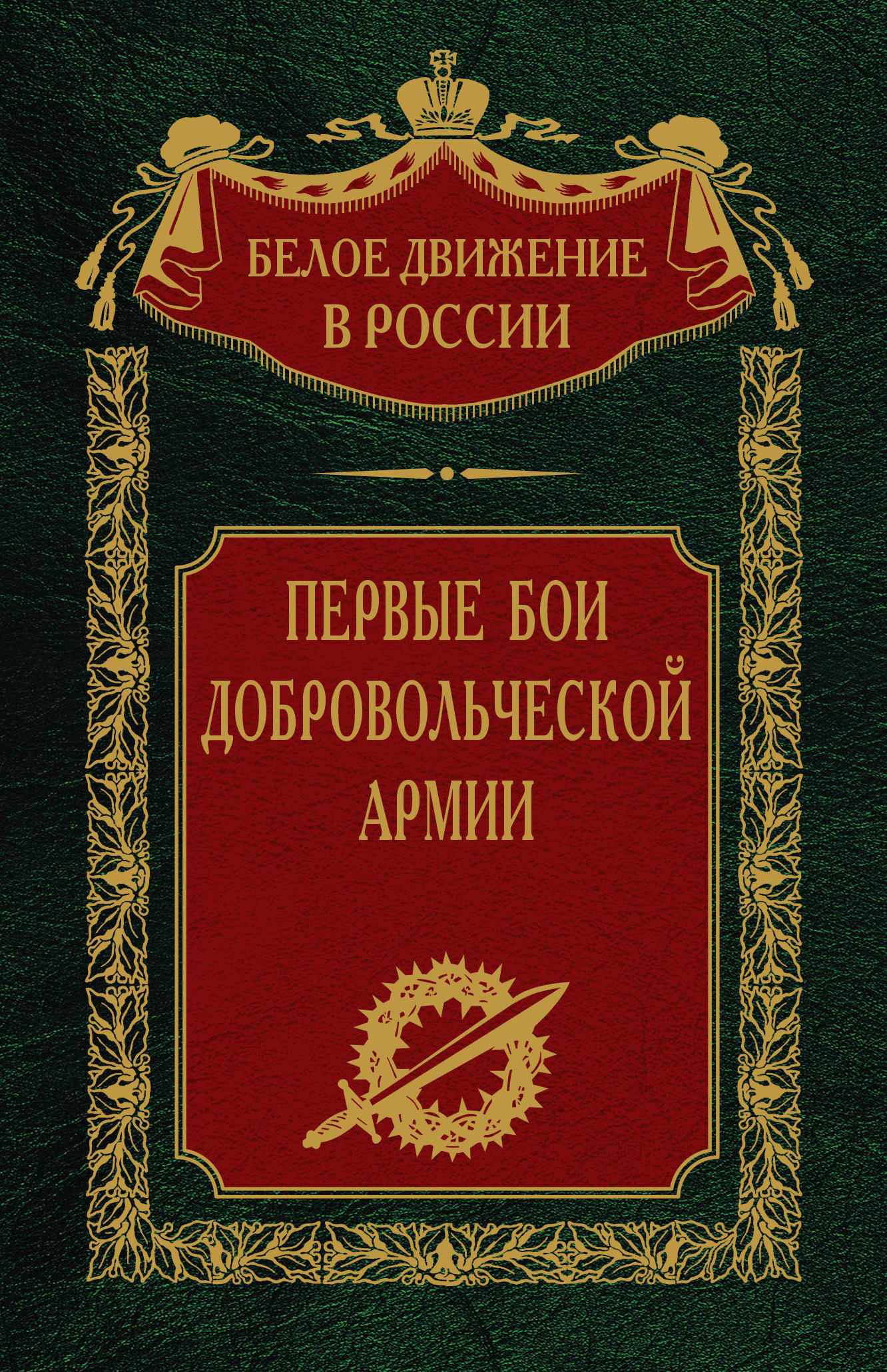Шрифт:
Закладка:
Книга представляет собой семнадцатый том серии, посвященной Белому движению в России, и охватывает боевые действия вооруженных сил на Юге России в первой половине 1919 года, то есть со времени их создания до издания А. И. Деникиным так называемой «Московской директивы». Это было время, когда белые завершили освобождение от большевиков Северного Кавказа, очистили от них Крым, начали движение на Царицын и Астрахань, удержали Донбасс. Весной белые перешли в наступление на всех фронтах, в результате чего создалась стратегическая обстановка, позволившая ВСЮР начать поход на Москву. Книга снабжена обширными и впервые публикуемыми комментариями, содержащими несколько сот неизвестных биографических справок об авторах и героях очерков.