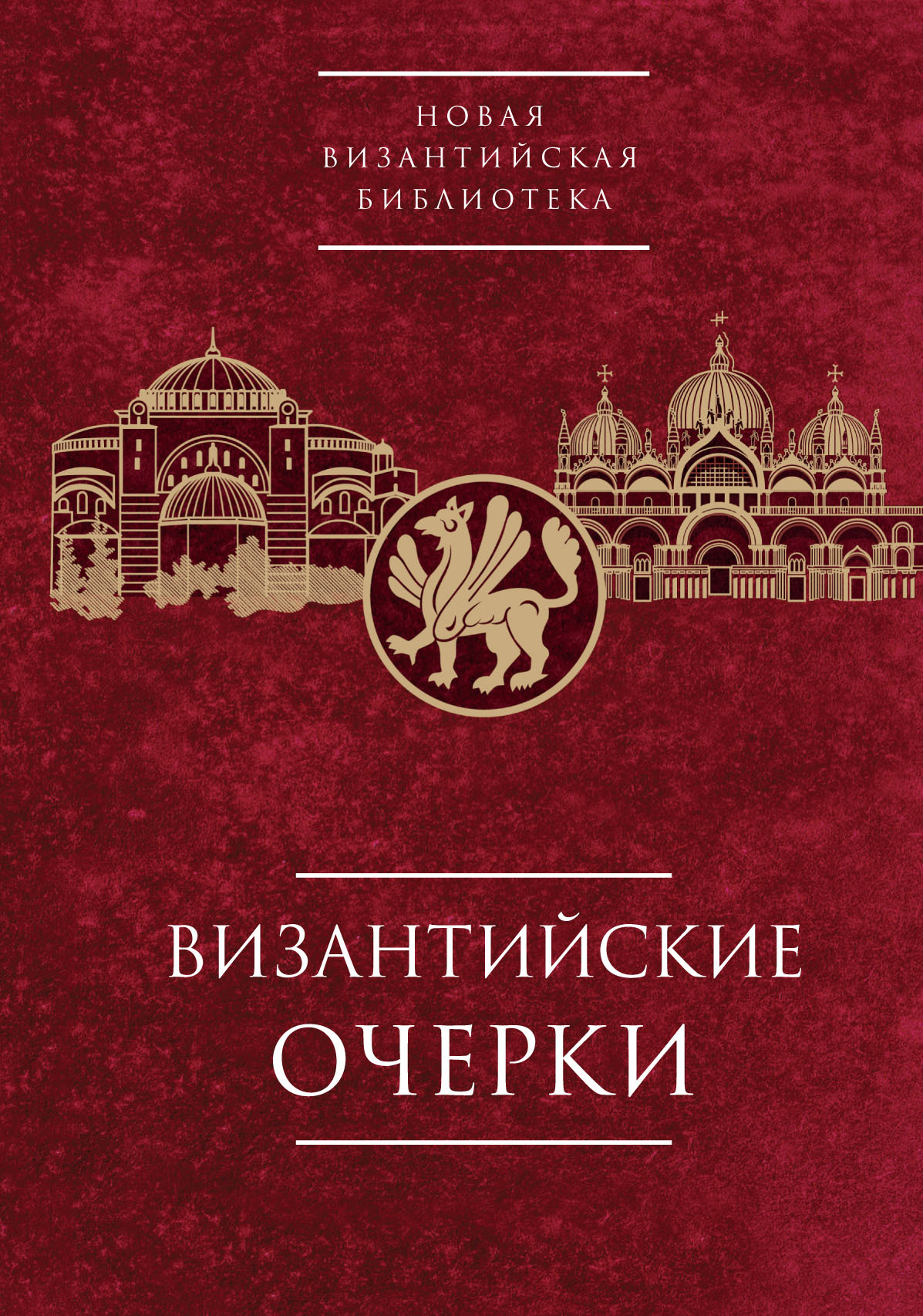Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В своей книге «Создание Узбекистана» профессор истории Карлтон-колледжа (США), ведущий специалист по Центральной Азии Адиб Халид рассматривает непростые взаимоотношения узбекской интеллигенции, местных большевиков и Москвы. Для автора новое узбекское общество – не просто результат Октября, но и итог реализации национального проекта, возникшего задолго до 1917 года. А культурная революция оказывается вовсе не только – и не в первую очередь – социалистической, но и в существенной степени мусульманской.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Адиб Халид»: