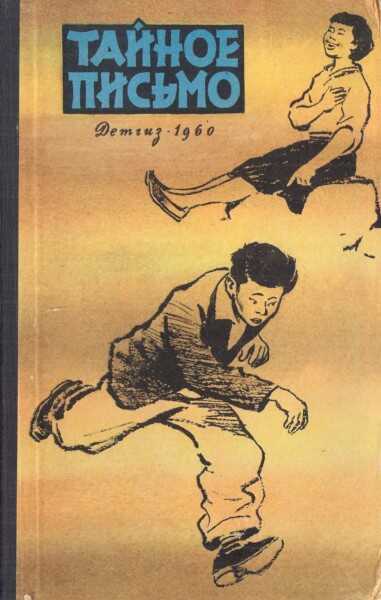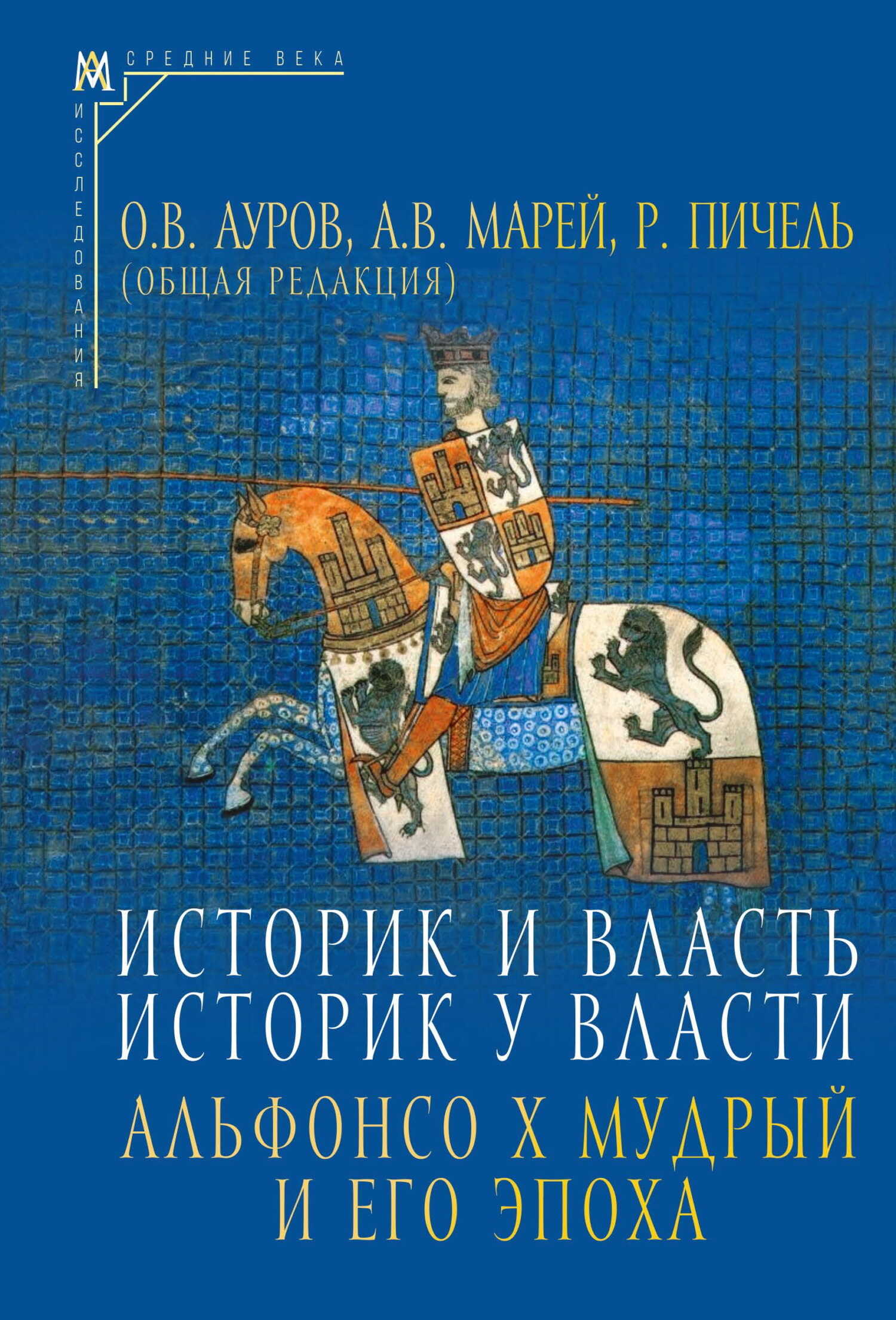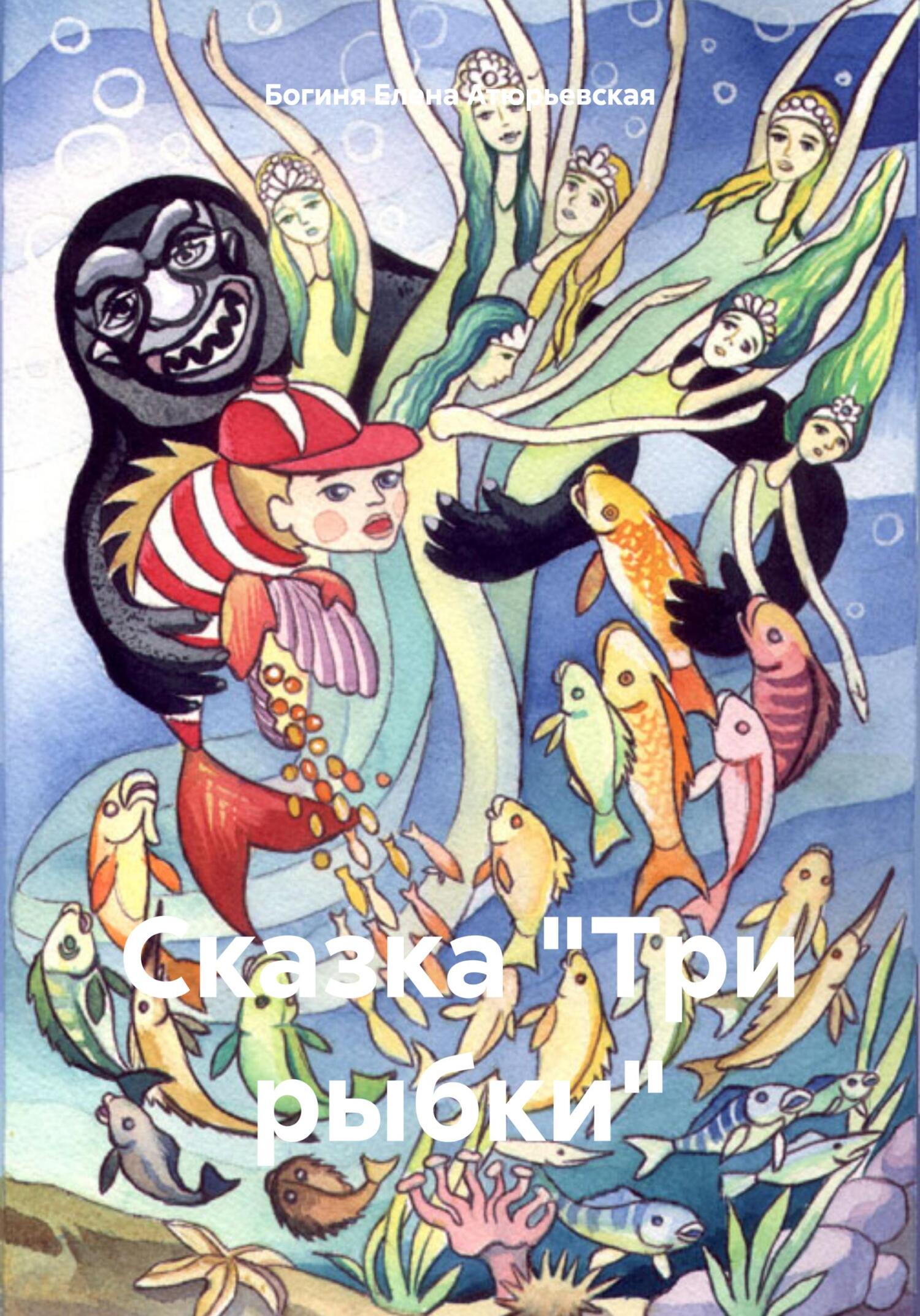Шрифт:
Закладка:
Спешите открыть древний фолиант и впитать забытые легенды иных миров!Вас ждут эпичные битвы, кровожадные чудовища и загадочные пророчества. Звон клинков заглушает могущественные заклятия, а мощные удары молотом способны сокрушить само мироздание. В глубоких подземельях маги проводят эксперименты, от которых кровь стынет в жилах, а обезумевшие короли закрывают на это глаза. Эльфы теряют свою красоту, в то время как жестокие орки похваляются благородством.И только лучшие барды-сказители смогли облечь эти истории в слова и записать на страницах, что открыты перед вами.Это самый безбашенный микс фэнтези, с густой атмосферой и пленяющим сюжетом. Каждый читатель сможет найти историю по вкусу.В сборник вошли самые невероятные рассказы конкурса “БС14: Слон Меча и Магии”, проводимого литературным клубом «Бумажный Слон».