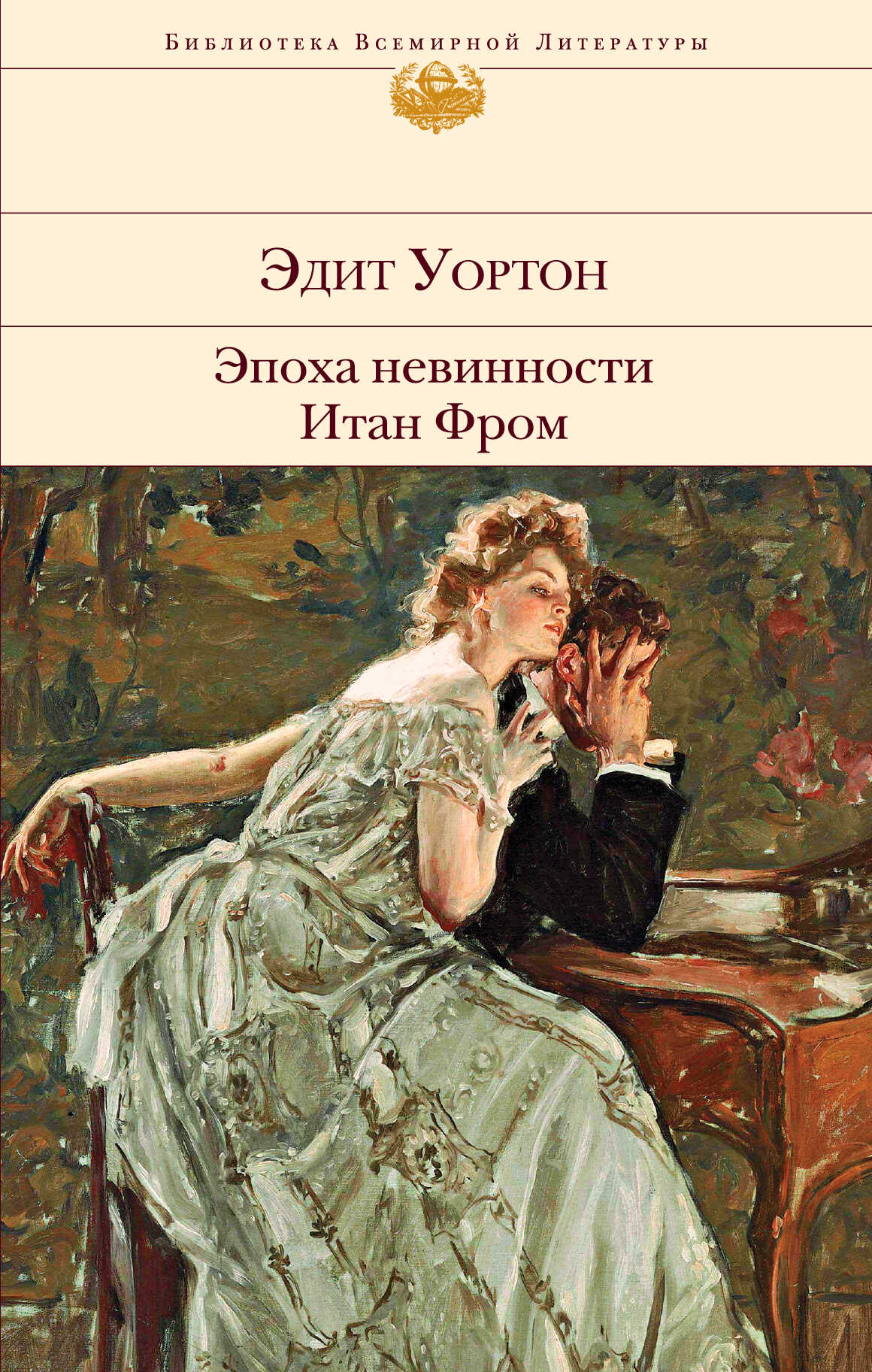Шрифт:
Закладка:
Эдит Уортон – автор более двадцати романов и десяти сборников рассказов – первая женщина-писательница, удостоенная Пулитцеровской премии в 1921 году. Такие произведения Уортон, как «Обитель радости», «Итан Фром», «Эпоха невинности», «Плод дерева», вошли в золотой фонд американской литературы. Роман «Эпоха невинности» лег в основу одноименного фильма Мартина Скорсезе, получившего признание и популярность. Противостояние личности и общества, столкновение общепринятых моральных устоев и искренних глубоких чувств неизбежно приводят к трагедии, ломают человеческие судьбы. И не всем хватает мужества, чтобы преодолеть вставшие на пути к счастью препятствия и отстоять свою любовь.«Итан Фром» – повесть о трагической судьбе фермера из Новой Англии, действие которой разворачивается на фоне суровой сельской местности.