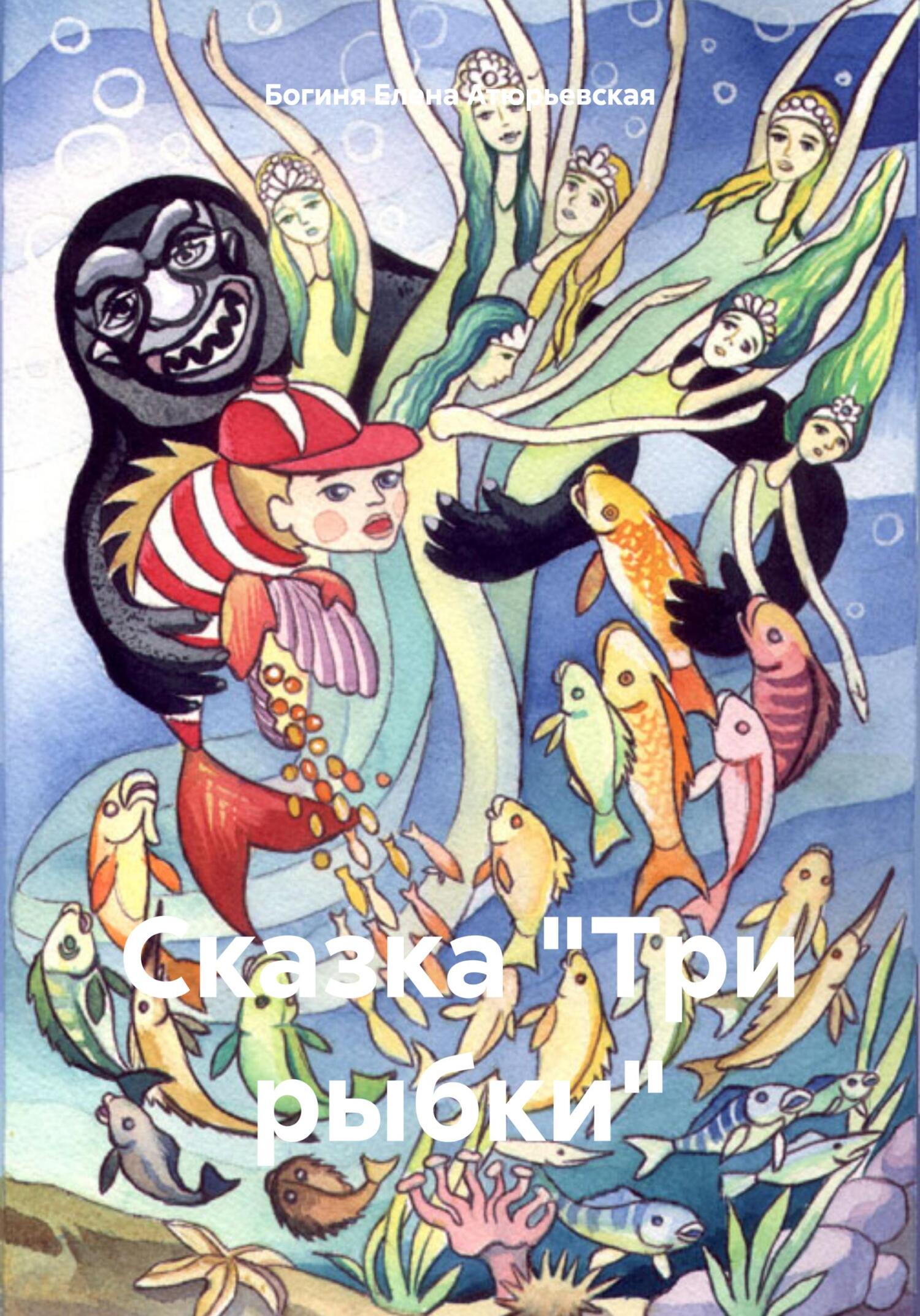Шрифт:
Закладка:
Частная школа для одаренных подростков из богатых семей. Гениальная подруга, которая выращивает ядовитые растения в своей личной оранжерее. И тайна, требующая тщательного расследования…Роман понравится поклонникам «Тайной истории» Донны Тартт и трилогии «Игры наследников» Дженнифер Барнс. Это уникальная Темная академия XXI века, где искусство, эстетика и наука соседствуют с дерзкими экспериментами и новыми технологиями.Кто-то из них знает правду. Кто-то выдает себя за другого. А кто-то… скоро умрет.Кира Журавлева не помнит себя до 10 лет. Все ее детские фото изрезаны зигзагом, кроме одного. Мать куда-то вечно сбегает с геранью в руках, а отец постоянно врет…Когда девушке выпадает шанс доучиться в выпускном классе в Москве, она не раздумывает. Ведь там Кира будет жить у друзей семьи – Воронцовых. Тех самых, что изображены на единственном уцелевшем снимке. Могут ли эти люди знать то, что столько лет скрывают ее родители?Воронцовы встречают Киру в своем особняке. Теперь она ходит в частную школу для одаренных подростков вместе с их дочерью Аллой и втайне расследует обстоятельства своего прошлого.Алла в свои 19 лет отлично разбирается в ядах и пишет статьи для научных журналов. Вот только ее способности куда поразительнее: она может предсказать чужую смерть. Математически. И, кажется, жертва из ее последней формулы-пророчества как-то связана с Кирой…Триллер-загадка, где нельзя доверять никому и ничему. Где дружба и любовь – лишь декорации к гениальному злодейскому замыслу. А финал переворачивает представление о книге с ног на голову._______________________________________________«Невероятная фантазия автора и реализация задумки не давали оторваться от книги до самого конца…» – Анастасия (@Diagon_Alley_Channel)«Позвольте себе запутаться в этой паутине, сотканной из безумия.Позвольте себе не понимать, что происходит, потому что вырезанная зигзагом и упрятанная в математическое уравнение правда останется недосягаемой до финала и приятно удивит». – Алена (@alexeenko_alena)