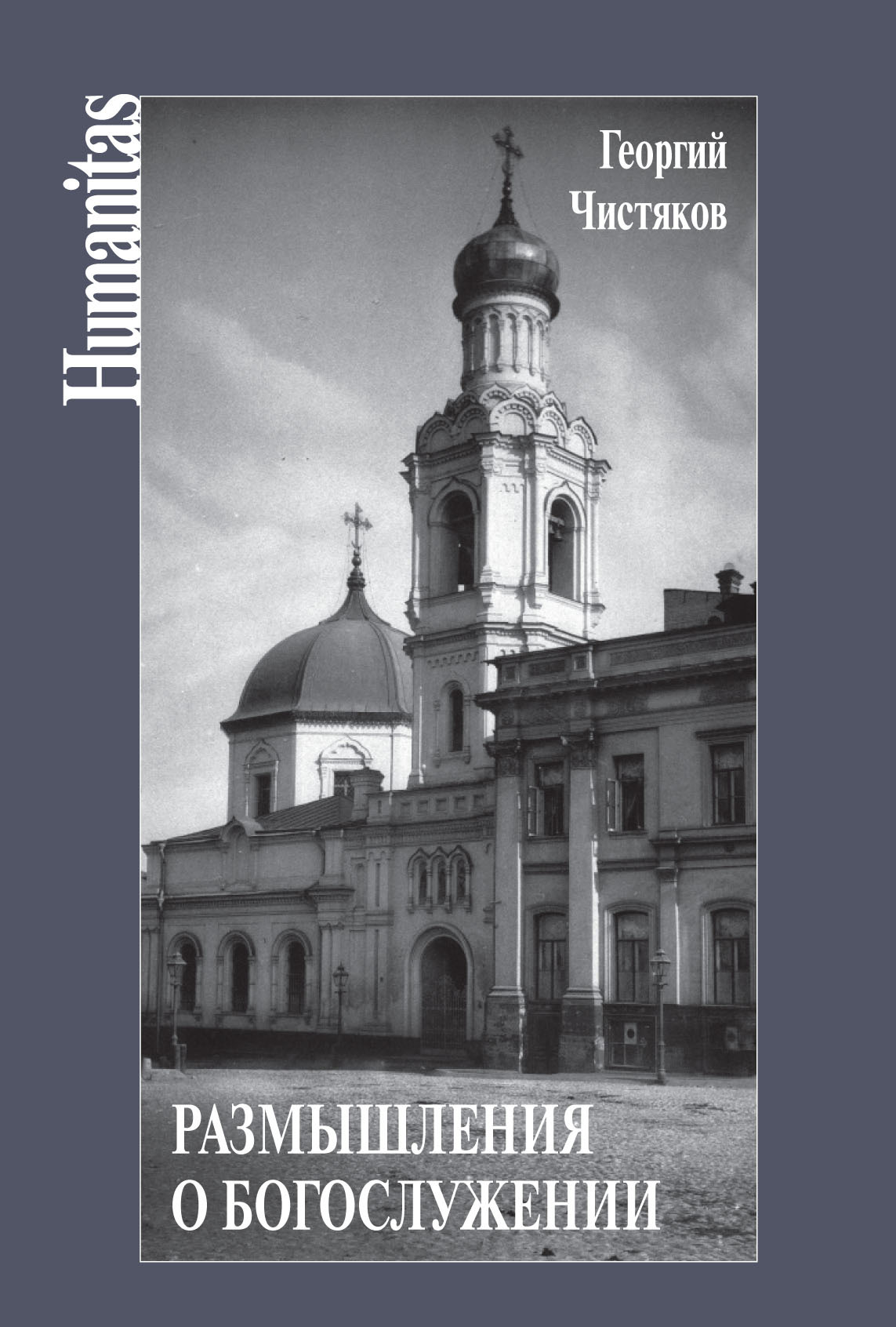Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Настоящее издание продолжает серию трудов священника Георгия Чистякова (1953–2007), историка, богослова, общественного деятеля. В первом разделе книги находятся ранее не публиковавшиеся беседы, посвященные православному богослужению, во втором – воспоминания о Г. П. Чистякове его прихожан, друзей, родных. В приложении публикуется библиография трудов Чистякова. Издание адресовано религиоведам-профессионалам, а также всем интересующимся историей культуры.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Георгий Петрович Чистяков»: