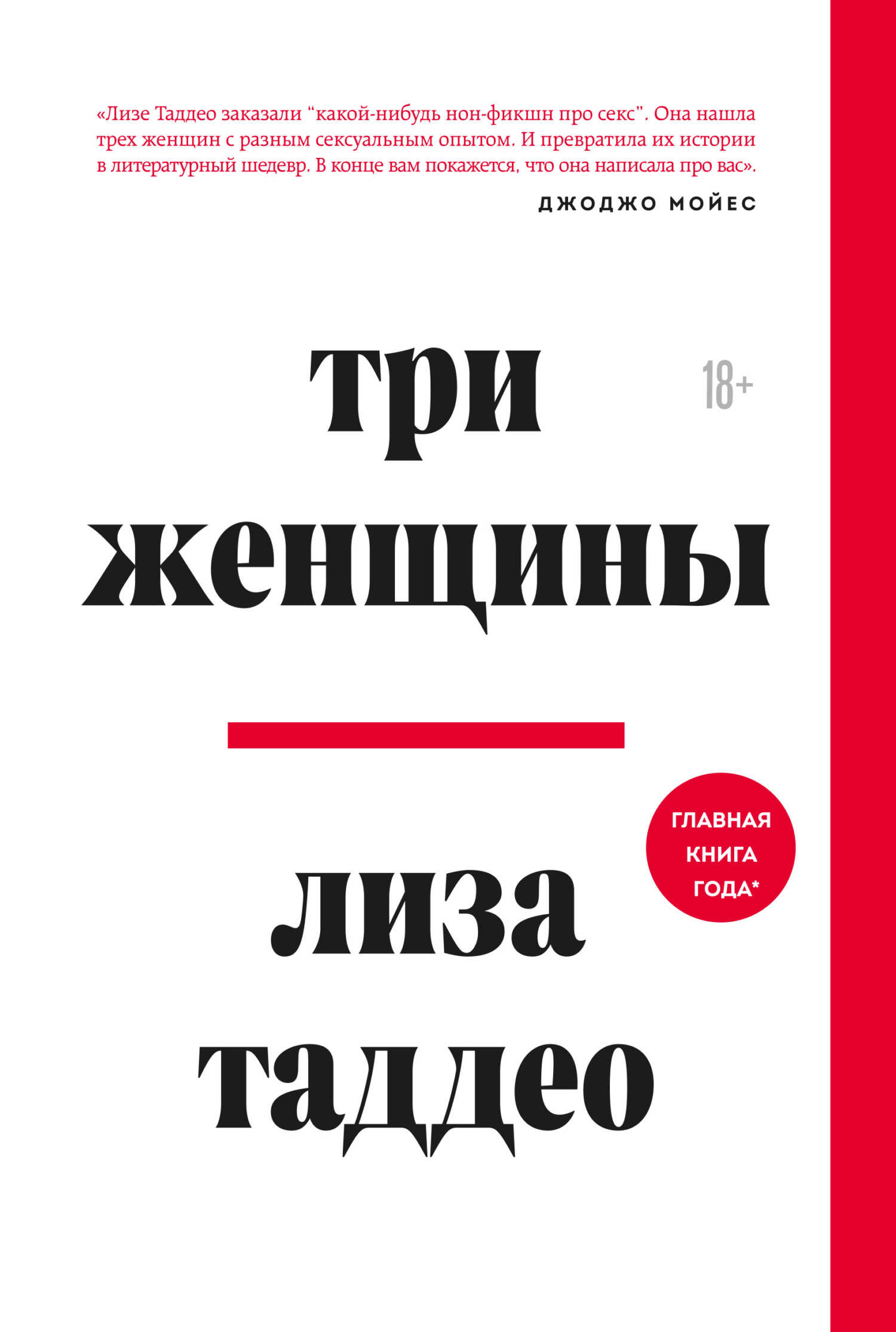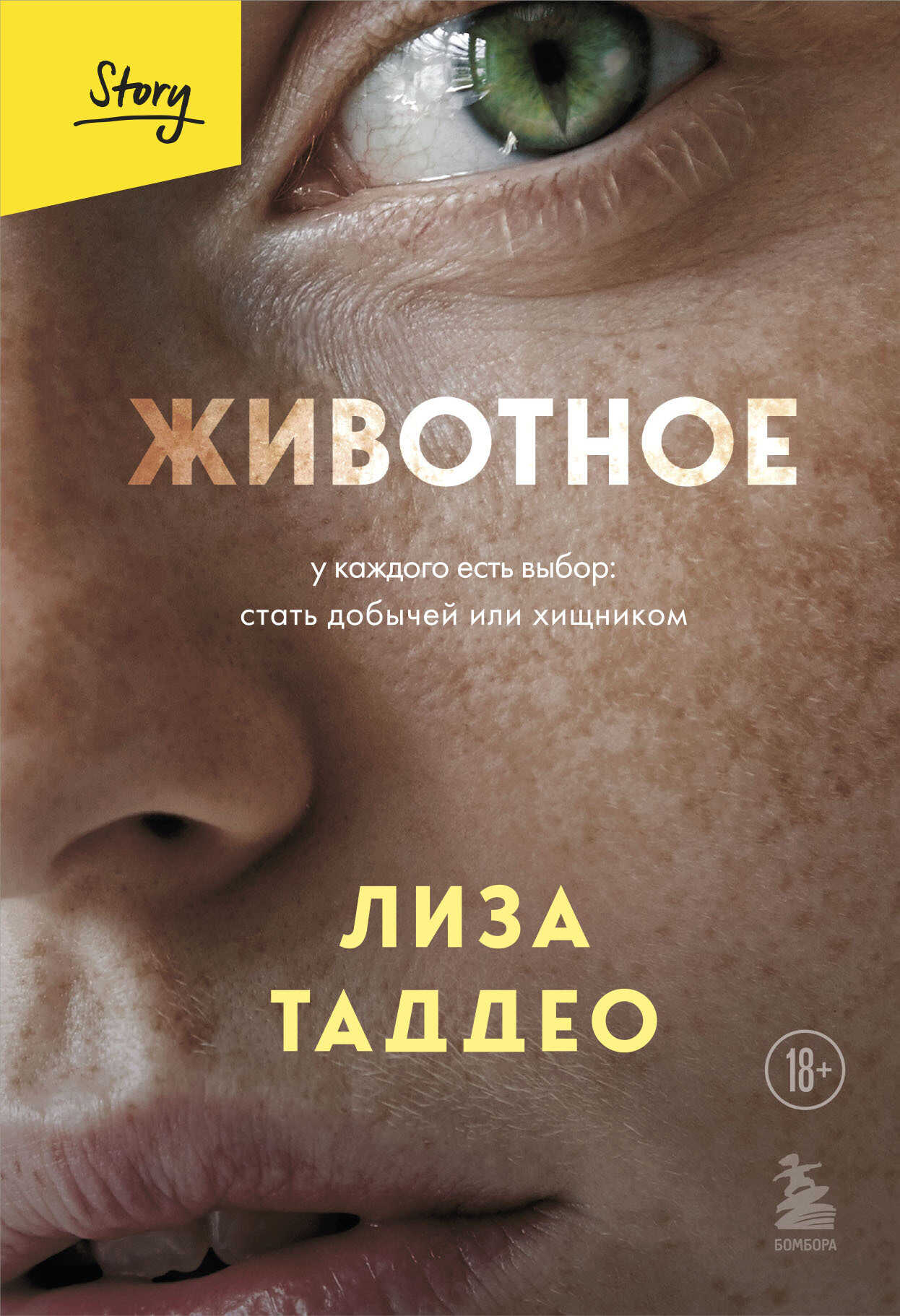Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Чего хочет женщина, когда хочет любви? Лина заводит любовника, потому что муж месяцами не прикасается к ней. Все, чего она хочет, – быть желанной. Мэгги по ночам переписывается со своим школьным учителем. Все, чего она хочет, – быть для кого-то особенной. Слоун занимается любовью с мужчинами, которых для нее выбирает муж. Все, чего она хочет, – не быть как все. Уникальное исследование женского желания, которое превратилось в литературный шедевр. Восемь лет три героини рассказывали о своем необычном сексуальном опыте, но нет ни одной женщины, которая не узнала бы в их историях себя.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Лиза Таддео»: