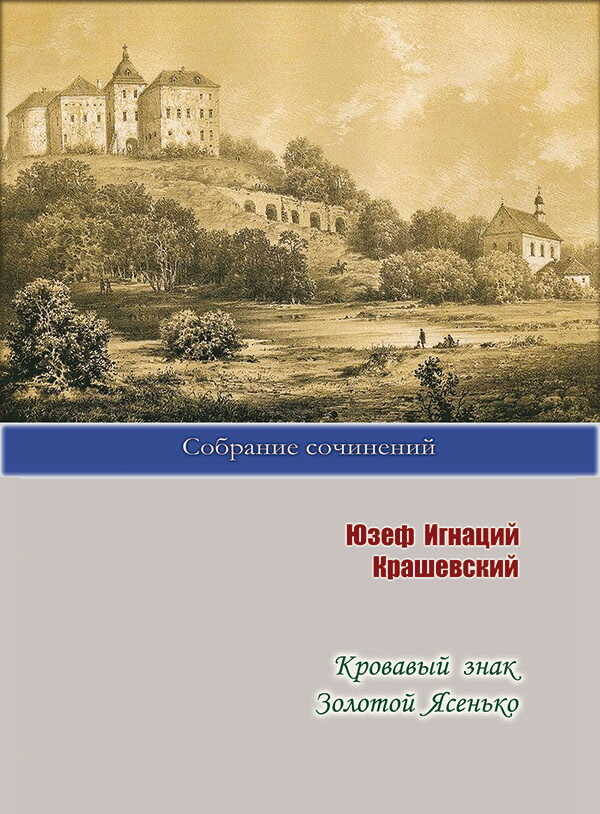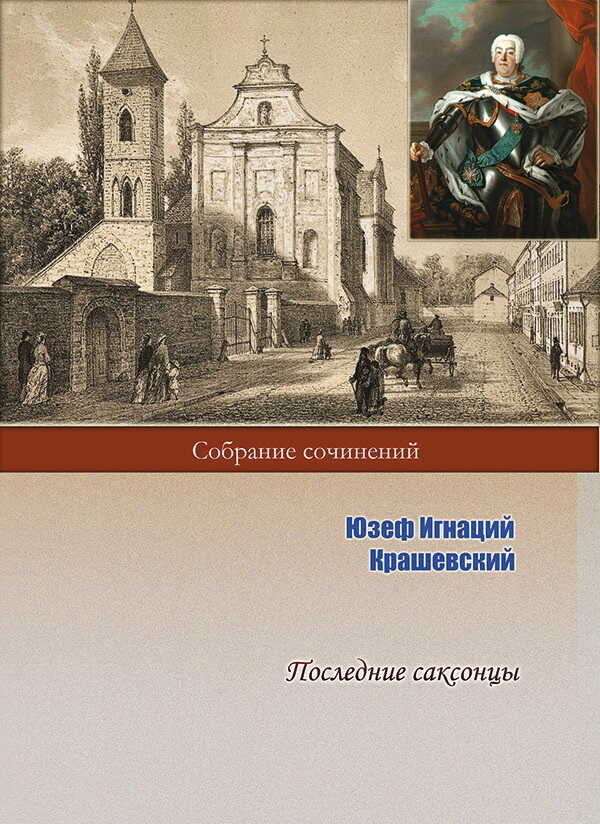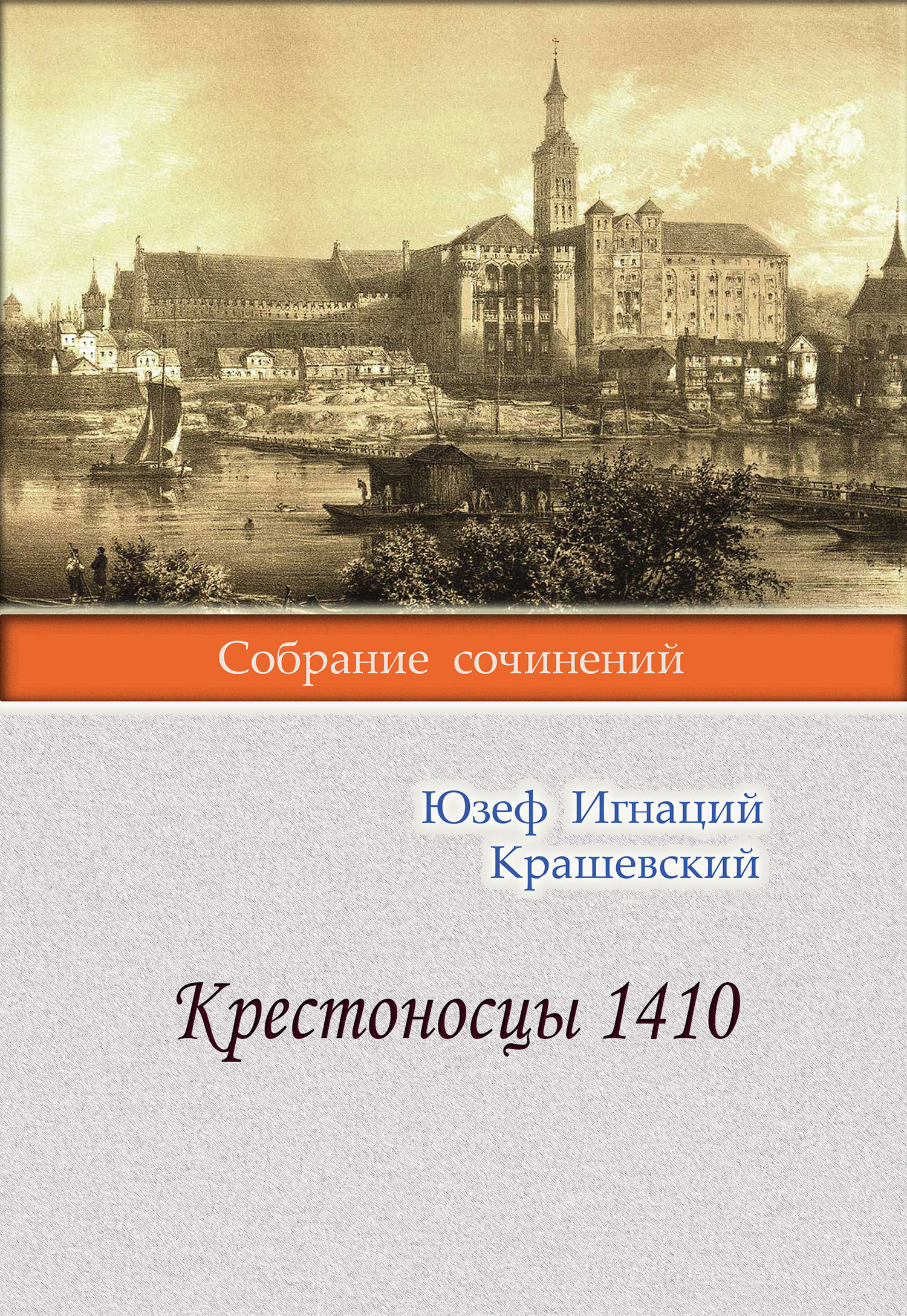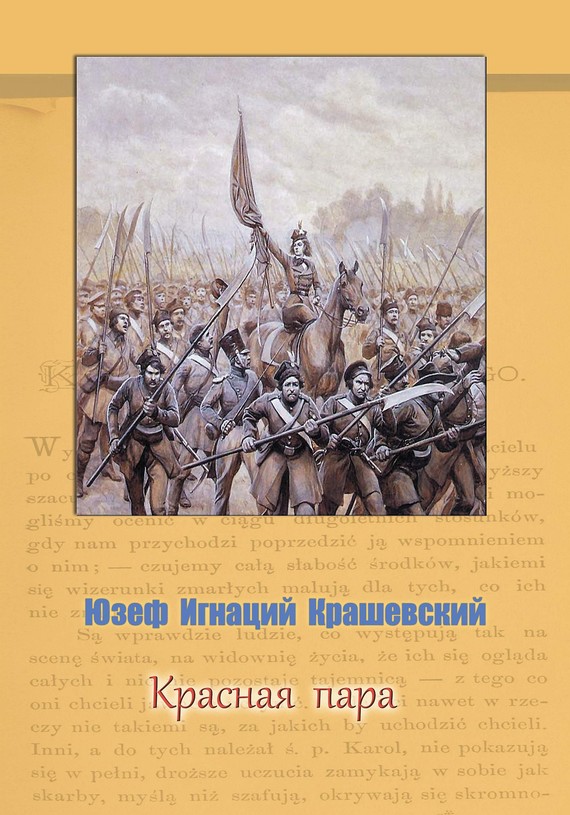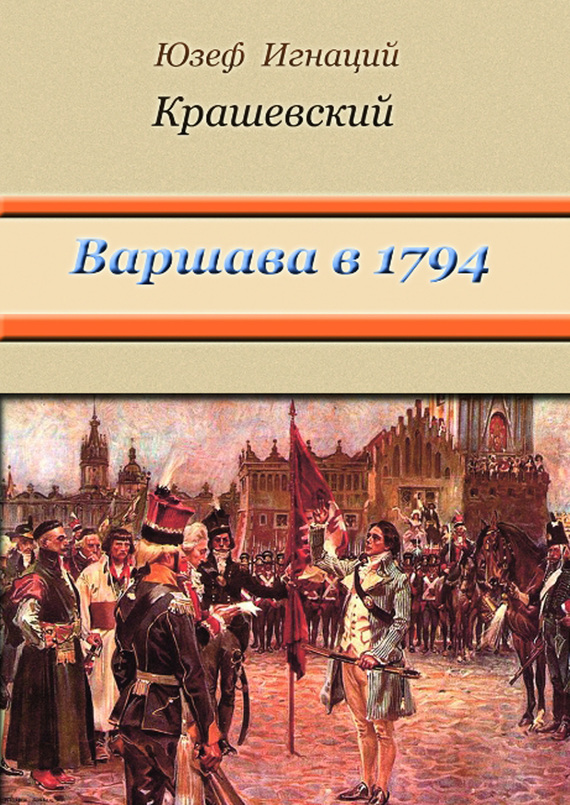Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Исторический роман Юзефа Крашевского «Крестоносцы 1410», как видно из названия, описывает события 1410 года и противостояние Тевтонского Ордена и Польши, которое заканчивается Грюнвальдской битвой и осадой Мальборга. Главная героиня романа – «сестра» Ордена, шпионка Офка, верно ему служит и всевозможными способами хочет предотвратить падение Ордена…
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Юзеф Игнаций Крашевский»: