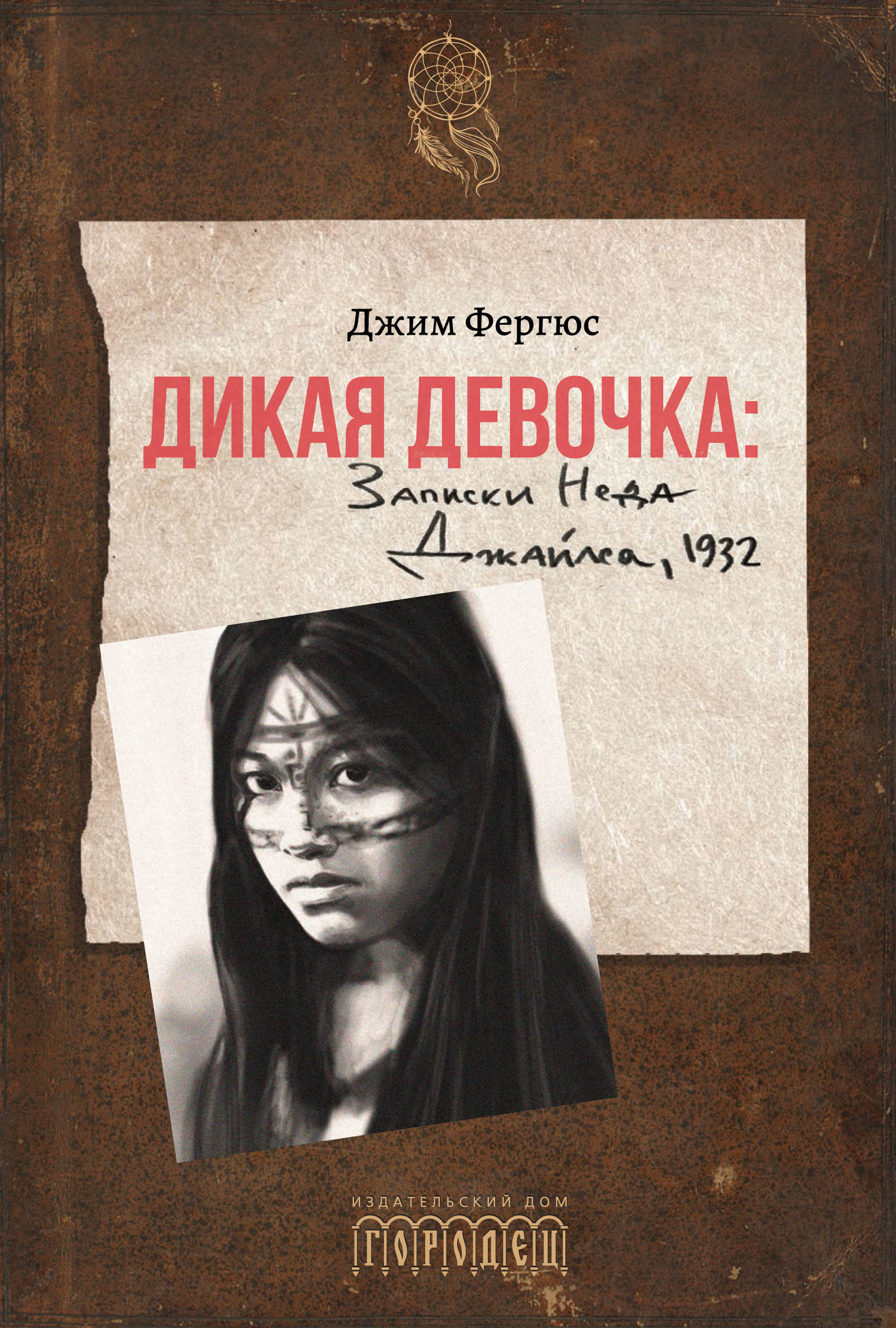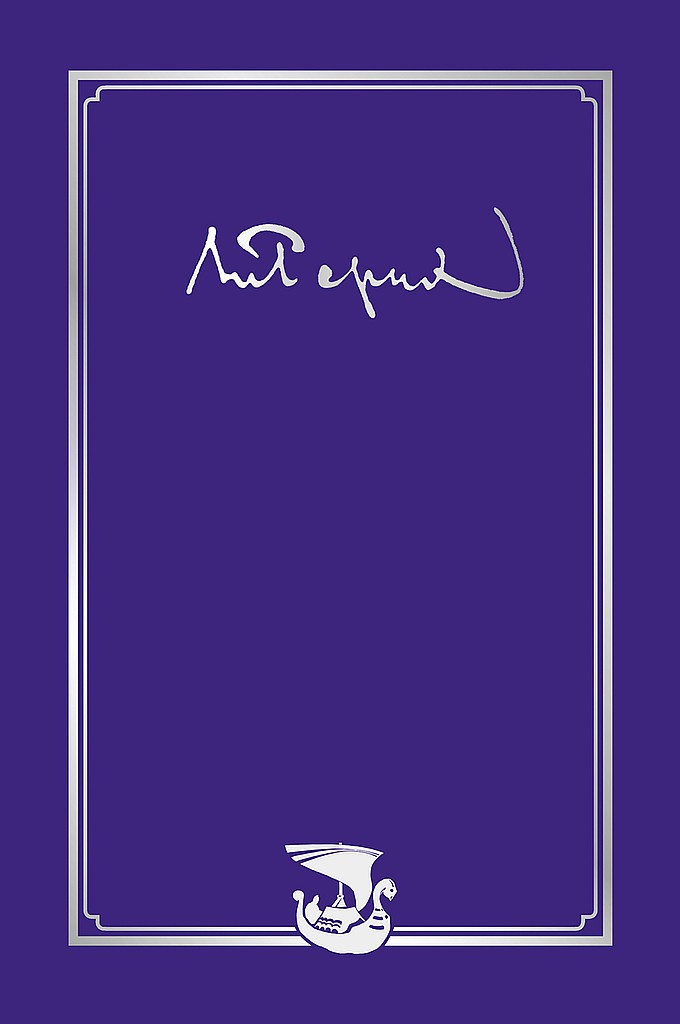Шрифт:
Закладка:
Какие мотивы двигали американскими женщинами, которые решились на переезд в Советский Союз в 1920-1930-е годы? Что они искали и нашли в стране, где происходил грандиозный социальный эксперимент? Как они адаптировались к новой реальности и как она изменила их? На эти и другие вопросы отвечает книга Джулии Л. Микенберг, историка культуры и профессора Миннесотского университета.
Автор книги рассказывает о жизни и деятельности разных американских женщин, которые по разным причинам отправились в Красную Россию. Среди них были суфражистки, педагоги, журналистки, художницы, реформаторы, коммунистки и авантюристки. Они приезжали в Москву, чтобы участвовать в построении нового общества, помогать нуждающимся, работать в сельских коммунах, писать для советских или американских изданий, выступать на сцене или просто узнать больше о стране, которая привлекала их своей революционной энергией.
Микенберг показывает, как американки воспринимали советскую действительность, как она соответствовала или расходилась с их ожиданиями и ценностями. Она также рассматривает, как советские власти относились к американкам, какие возможности и ограничения они им предоставляли. Она демонстрирует, как американки сталкивались с трудностями и опасностями жизни в СССР, как они поддерживали связь с родиной и как они решали свою дальнейшую судьбу - оставаться или уезжать.
Книга Джулии Л. Микенберг - это увлекательное и многогранное повествование о женщинах, которые пошли за своей мечтой и столкнулись с реальностью. Это также ценный источник для изучения культурных, политических и гендерных аспектов американо-советских отношений в межвоенный период. Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com