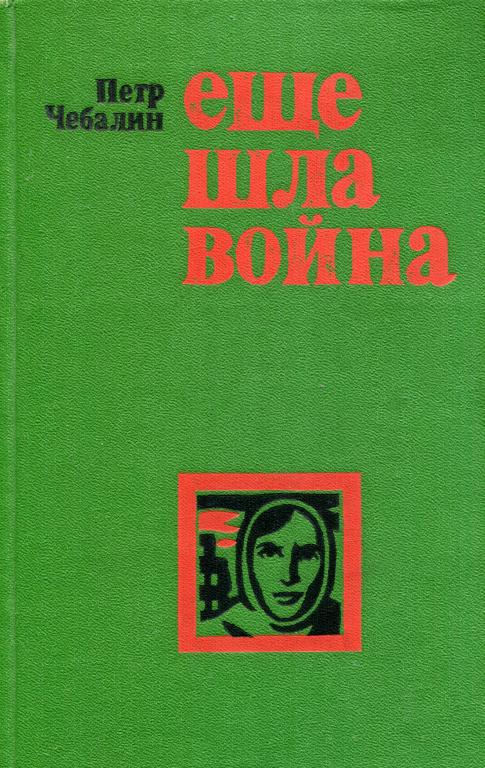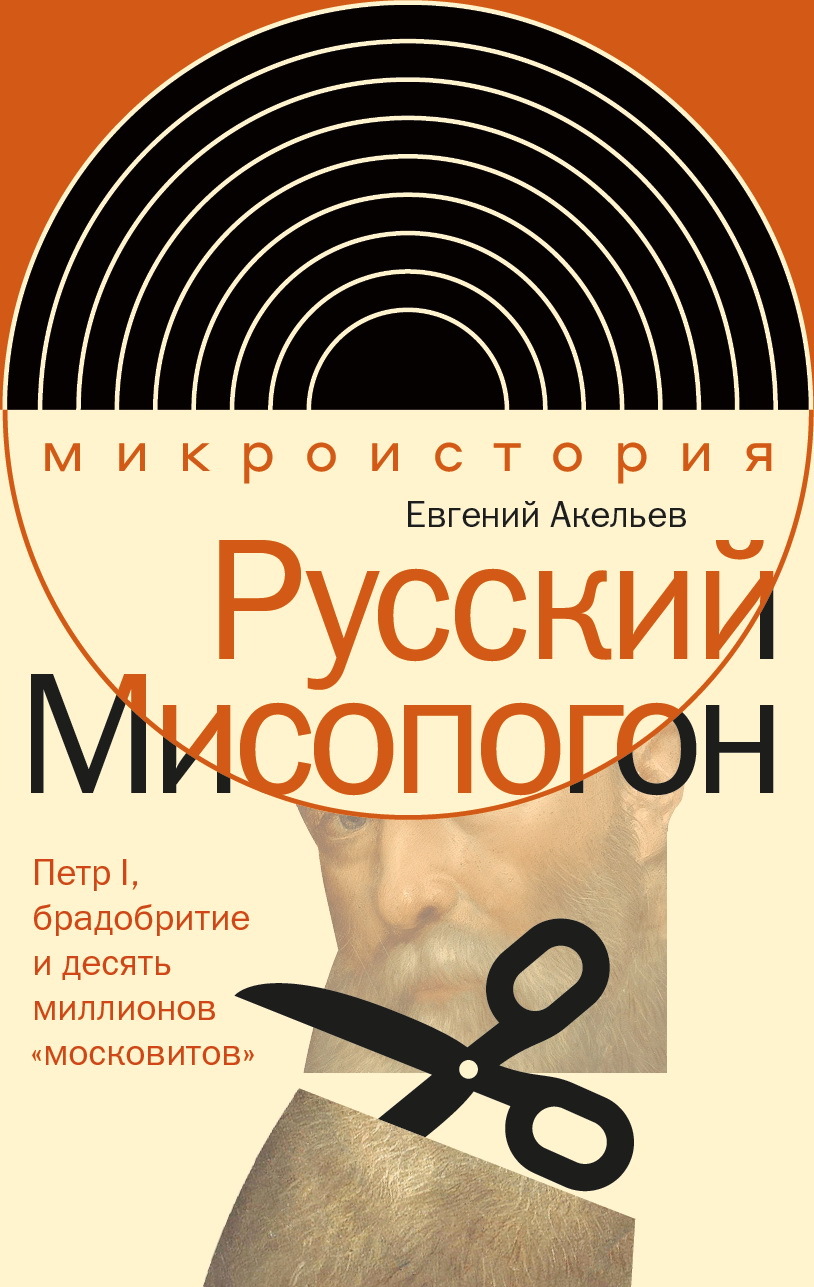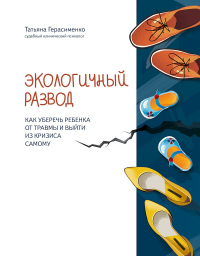Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Книга состоит из романа «Еще шла война», повести «Когда рядом друзья» и рассказов. Все они повествуют о трудных годах восстановления разрушенного войной донецкого края, о духовном обновлении, возрождении самих людей, которым пришлось жить под фашистским игом, об их нелегкой, полной драматизма судьбе, о молодых шахтерах-новаторах. Выпускается к 70-летию автора.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Пётр Львович Чебалин»: