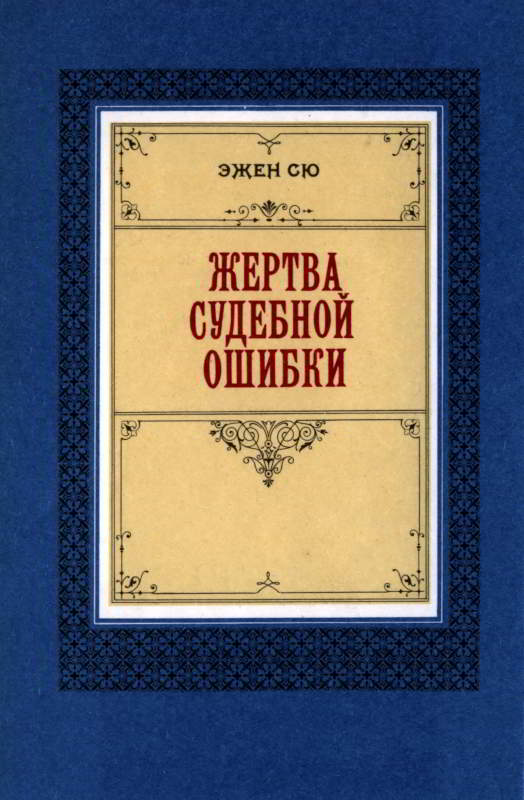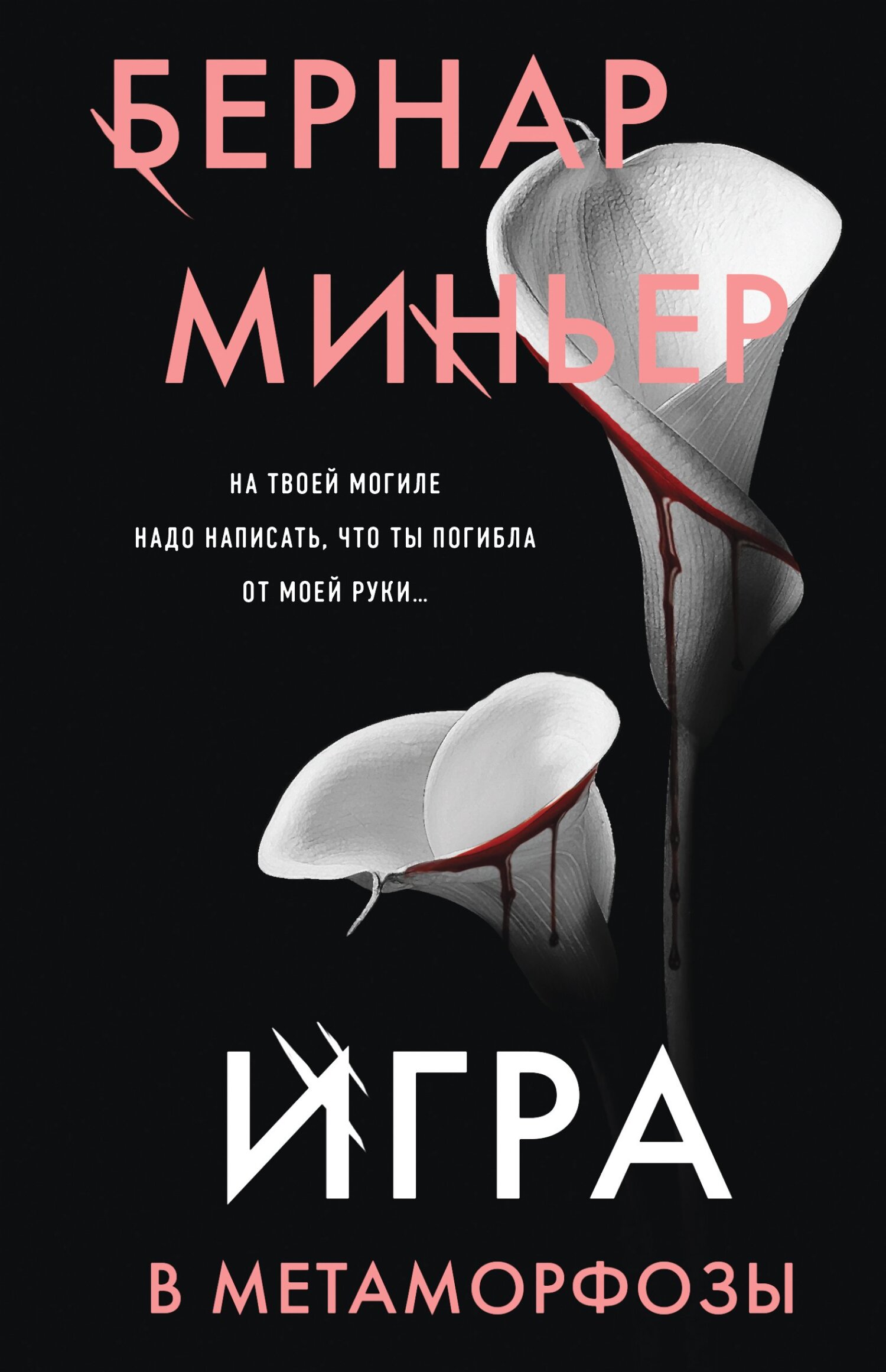Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Переиздание остросюжетного романа широко известного писателя Эжена Сю о нравах французского общества XIX века.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Эжен Сю»: