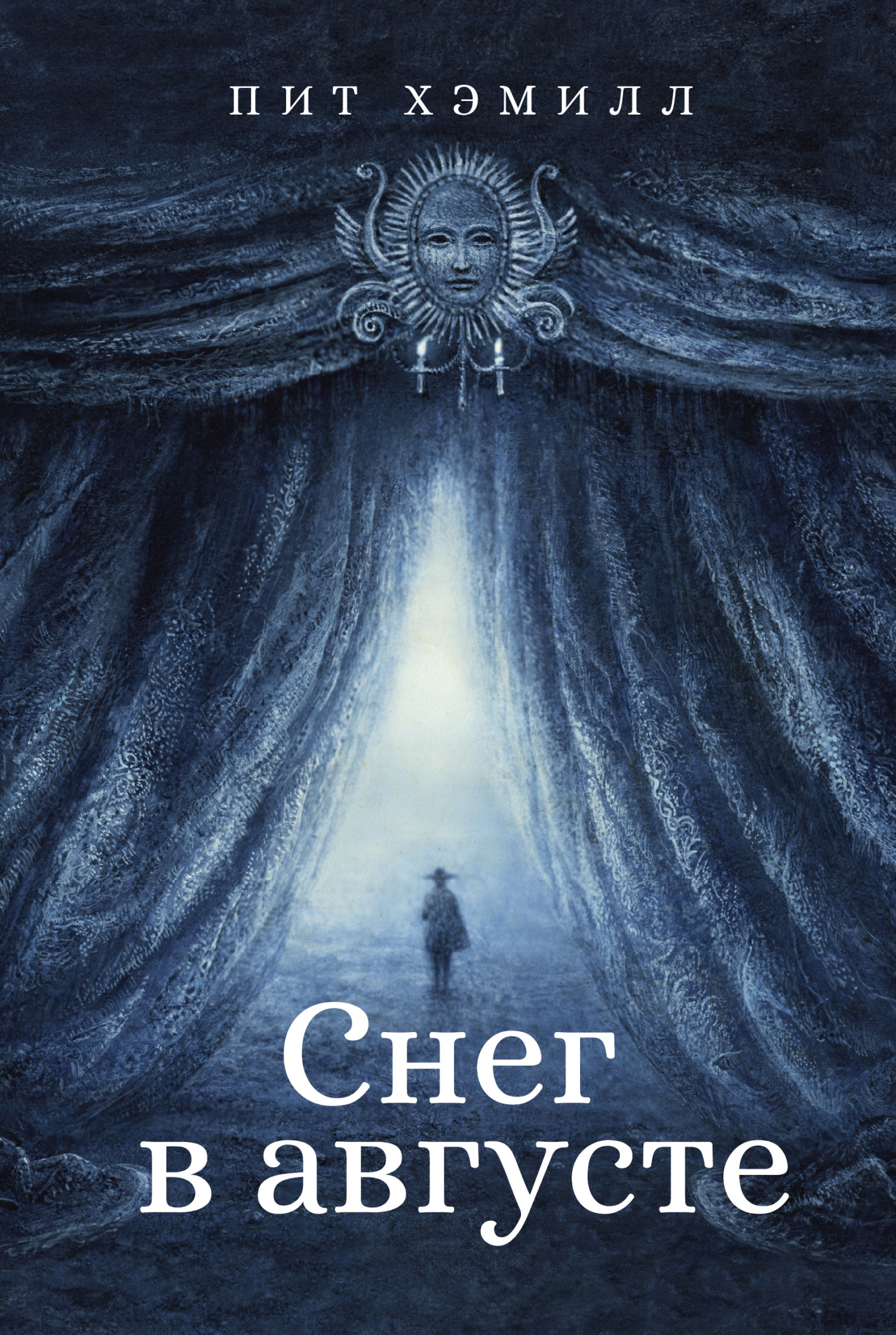Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Неизменно стремясь к модернизации своей страны, Михаил Васильевич Ломоносов оказал огромное влияние на самые разные сферы науки и культуры: формирование литературного языка и классического стихосложения, химию, оптику, океанографию, изучение атмосферного электричества, историю, астрономию и не только. Неудивительно, что и личностью он был чрезвычайно разносторонней, неординарной как в хорошем, так и в дурном. Привлекая широчайший круг источников, историк литературы Валерий Шубинский подробно воссоздает как путь Ломоносова-новатора, так и портрет Ломоносова-человека.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Валерий Игоревич Шубинский»: