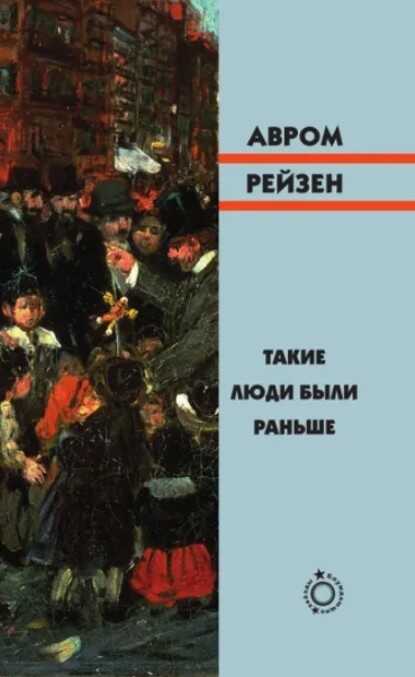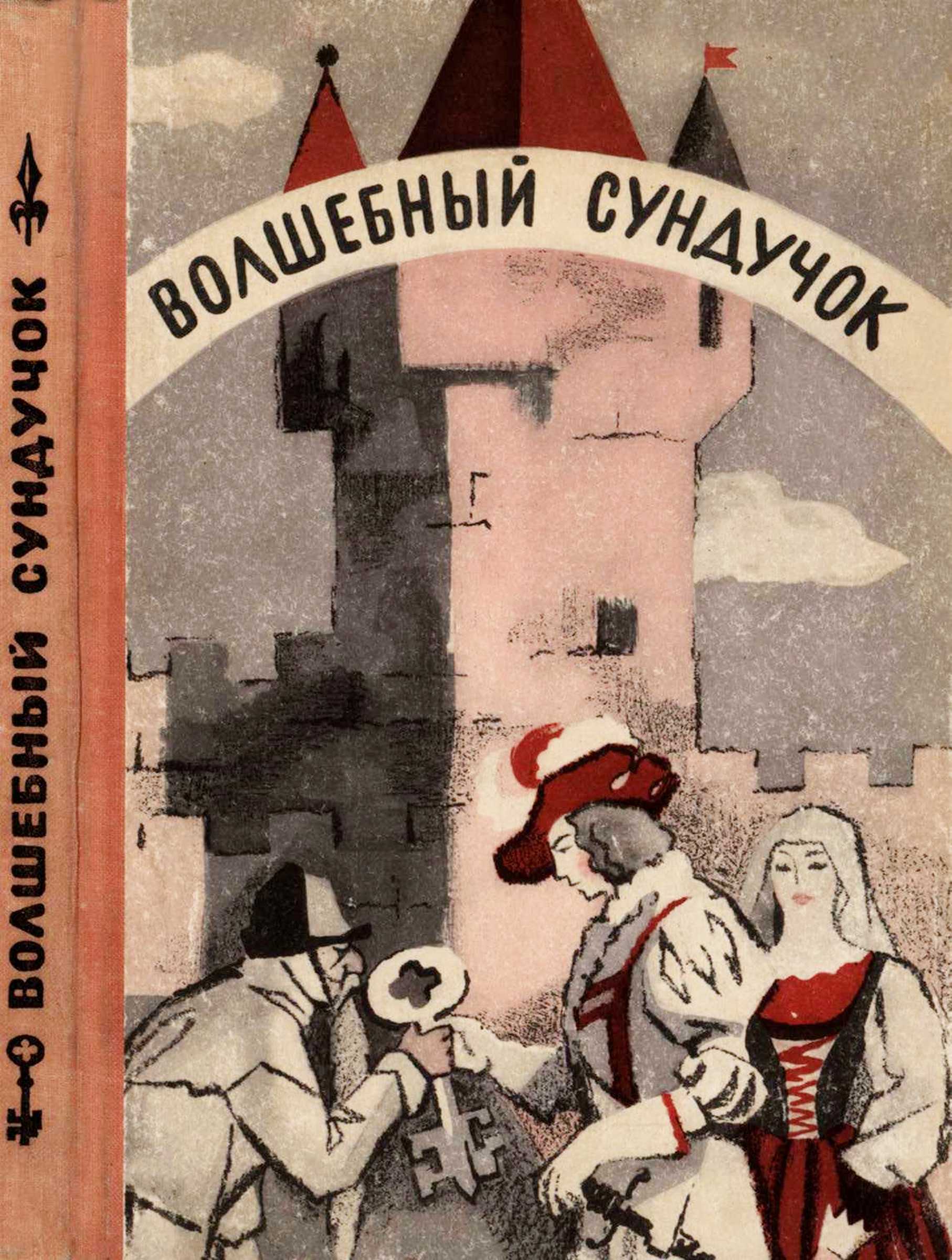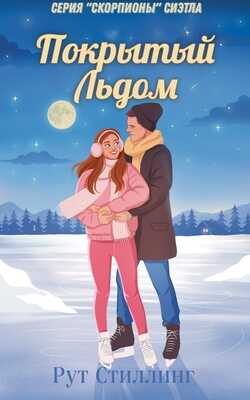Шрифт:
Закладка:
Поверить не могу такому счастью.
*
После Пейсаха фабрика была готова. Мы всем хедером побежали на нее посмотреть. Ее вид испугал нас. Издалека зло смотрели высокие трубы, и казалось, они хотят уничтожить все поля вокруг.
— Какие трубы высоченные! — показал на них один из мальчишек, Яшка.
— И гудят! — робко заметил другой мальчик.
— Давайте поближе подойдем. Чего испугались? — подбодрил третий.
— И правда, чего бояться-то? — согласились остальные. — Давайте!
Мы подошли и остановились у речки. Вода тихо и грустно журчала. Почудилось, что речка плачет, и я подумал, что она тоже боится огромной фабрики.
Речка произвела такое впечатление не только на меня. Мы все теперь смотрели на нее, а не на фабрику. Кто-то вздохнул:
— Мутная вода стала.
— Грязная! — подтвердил другой.
— Это из-за дыма из труб.
— Жаль речушку! — усмехнулся один из мальчишек.
— Дурак! — Мы тоже засмеялись, но у всех на душе стало больно до слез.
*
Вот и Швуэс не за горами. День выдался жаркий, и мы, сидя в хедере, без конца поглядывали в окно на тени домов, ждали, когда солнце сжалится над нами, начнет опускаться куда-то за крыши, и наш злой ребе наконец-то нас отпустит.
И вот уже в тени скрылась вся улица. Пастух гонит стадо, и ребе отпускает нас на свободу.
— Купаться! — выкрикиваем мы в один голос и бросаемся вниз по улице, к речке.
— Слышите, как свистит? — озабоченно говорит один из мальчишек, прислушиваясь к далекому фабричному гудку.
— Пускай свистит! Веселее купаться будет, — отмахивается второй.
— Верно! — соглашаемся мы, словно надеемся себя обмануть.
Но чем ближе подходим к речке, тем сильнее страх. Как ни бодрись, сердце все равно чует беду.
Я бегу все быстрее, лечу стрелой, увлекая за собой друзей, и на берегу останавливаюсь как вкопанный.
— Нет больше речки, братцы! — кричу чуть не плача. — Пойдемте отсюда!
Дз-з-з! — свистят фабричные трубы.
Дз-з-з!
Мальчишки подходят, наклоняются к речке, и мы дружно вздыхаем, как на похоронах.
Вода застыла, словно остатки холодного супа в тарелке. На поверхности плавает мусор: щепки, поломанные спичечные коробки… И незнакомая, резкая вонь.
Мы стоим, понурившись, и вдруг сзади раздается низкий голос:
— Эй, вам чего тут надо?
Оборачиваемся и видим высокого толстого лысого еврея. Он смотрит на нас, довольно улыбаясь.
— Чего надо? — спрашивает он снова.
— Купаться пришли! — вырывается у кого-то из нас.
— Ха-ха-ха! Купаться! — хохочет толстяк. — Ну и чего ждете?
— Мы раньше тут купались, — сквозь слезы объясняет другой мальчишка. — Раньше вода чистая была…
— «Раньше, раньше…» — передразнивает пузатый еврей. — В чистой воде любой купаться может, а вы теперь попробуйте! Ха-ха-ха!
Он издевается над нами, и один из мальчишек, побледнев как покойник, кричит:
— Чтоб она сгорела, ваша фабрика!
— Ха-ха-ха! — смеется лысый. — Пошли вон отсюда!
Мы брели домой, а в ушах стояли хохот толстого еврея и вой фабричных труб. Казалось, мусор не в речку, а в душу выкинули.
— Чтоб она сгорела, эта фабрика! — вздыхали мы всю дорогу. — Речку изгадила…
Долго, долго мы оплакивали нашу речку и еще дольше проклинали спичечную фабрику.
1901
Три врага
В детстве я ненавидел трех человек, считал их своими заклятыми врагами. Один из них был резник Хаим-Мордхе, еврей с длинной, густой, дико запутанной бородой и страшными глазищами, сверкавшими, как его отточенный нож. Когда Хаим-Мордхе приходил к нам резать теленка, которого родила наша корова, и начинал хладнокровно править нож, рассказывая по ходу дела, что шкуры упали в цене (он еще шкурами торговал), мне всегда хотелось выхватить нож из его ручищи и вонзить ему прямо в сердце. Я жалел теленка гораздо больше, чем этого злодея, который только и умеет, что шкуры скупать да несчастных животных убивать.
Второй, которого я считал врагом, — меламед Грейнем. Из-за его очень длинной шеи ученики дали ему прозвище Аист. Я у него даже не учился никогда, но мальчишки рассказывали о нем такие ужасы, как он обращается с учениками, что я просто из себя выходил, и когда я видел, как в синагоге перед молитвой он омывает руки, тараща свои маленькие, масленые глазки и бормоча под нос какую-то невнятицу, мне очень хотелось поквитаться с ним за моих друзей.
Но гораздо сильнее, чем этих двоих, я всем своим юным сердцем ненавидел ростовщика Арона-Хаима. На первый взгляд это был бедняк, худой, сутулый, он ходил в старой, рваной одежде, но мне было достаточно услышать, как он твердит моему отцу: «Говорю вам, реб Шолом, так не пойдет, не могу…», чтобы я тут же почувствовал к нему глубочайшую ненависть. В его голосе слышалось столько холодной злобы, столько жестокости, что я закипал от гнева, и когда он уходил, я не мог удержаться и спрашивал:
— Папа, что ты его боишься? Почему ты так с ним разговариваешь?
— Потому что иначе он у нас дом отберет, — отвечал отец не то в шутку, не то всерьез.
— Черта с два он отберет! — кричал я, сжимая кулаки. — Увижу его на улице — камнем голову размозжу!
— В Сибирь захотел? — охлаждал мой пыл отец.
И в эту минуту я злился на Сибирь гораздо больше, чем на мерзкого ростовщика.
*
И, представьте себе, я дожил до того, что двое из моих врагов получили по заслугам. Хаим-Мордхе сумел разбогатеть на торговле шкурами. Тем временем сын нашего кантора выучился на резника и выдержал экзамен… А у его отца было немало сторонников, потому что он несколько лет назад охрип, и все его жалели. И местечко решило: пусть вместо Хаима-Мордхе, который и без того как сыр в масле катается, резником будет сын кантора. А что? Неженатый не имеет права скот резать? Так давайте его женим. Конечно, это трудно — быстро невесту найти, но раз весь «город» хочет, значит, найдут. Короче, дали парню жену, дали нож и сказали: «Режь!»
Вот так я и дождался, что старый резник получил свое. Правда, новый был не намного лучше, тоже животных убивал, но все-таки я не испытывал к нему такой ненависти. Он не так спокойно точил нож, как его предшественник, даже бледнел как полотно, руки дрожали, и мне казалось, что ему тоже жаль несчастного теленка, но ничего не поделаешь, раз выбрали резником…
Потом месть настигла Грейнема по прозвищу Аист. Как-то после Пейсаха по местечку разнеслась новость, что меламед Грейнем потерял всех учеников. К кому ни придет, все отказываются ему детей отдавать. Не нужна его наука: ни ошибки, когда