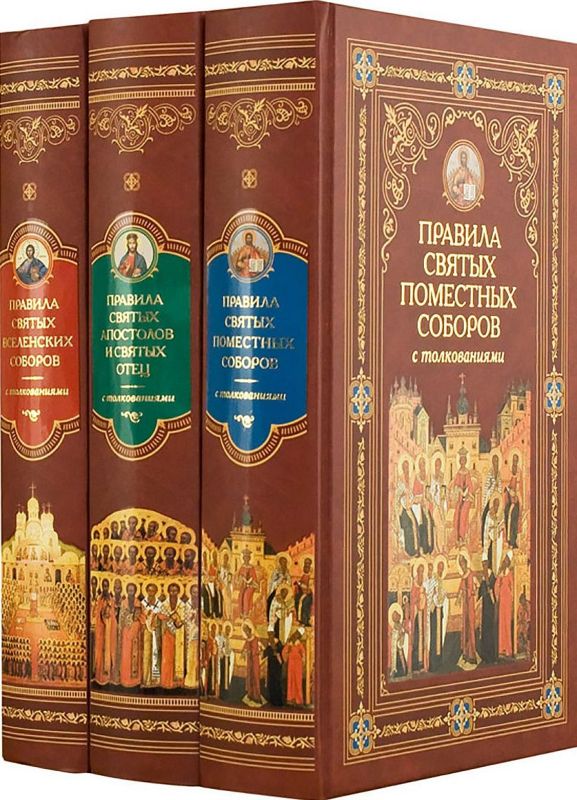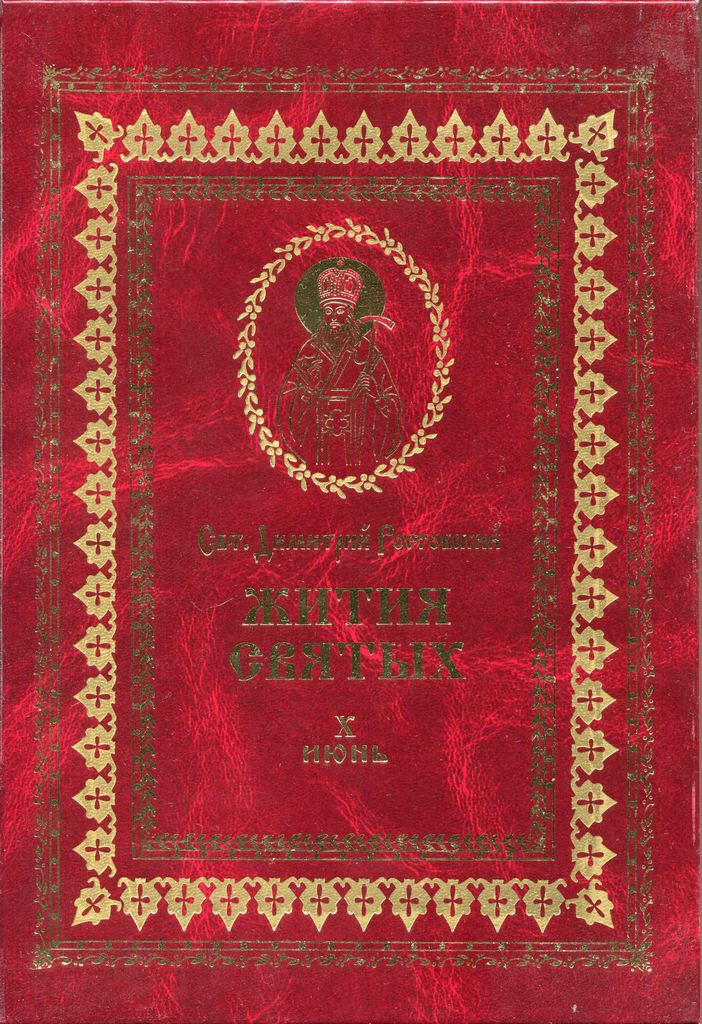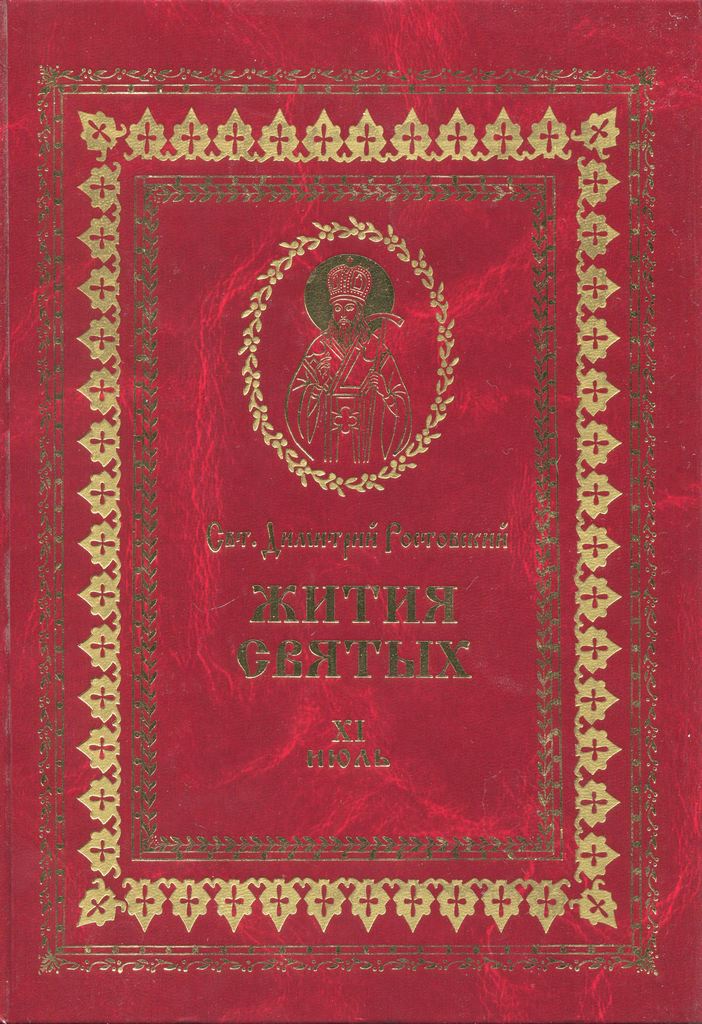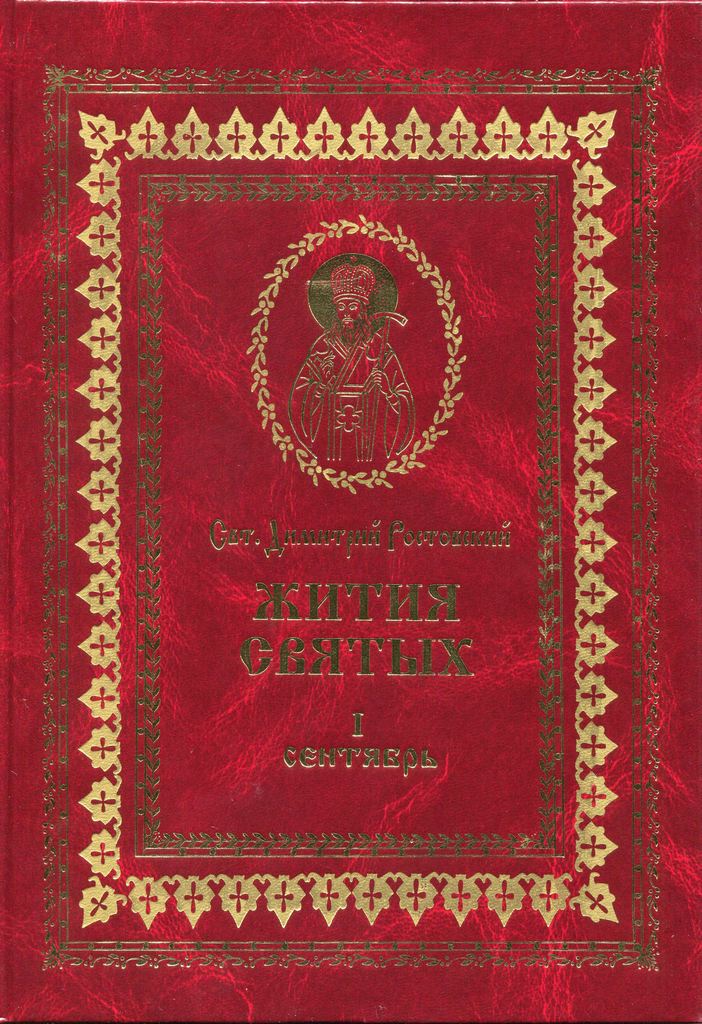Шрифт:
Закладка:
Вторая половина XIX века. В разгар очередной "опиумной" войны двадцатишестилетний генерал Николай Игнатьев направлен в Пекин — город чудес, где смешались современные веяния и седая древность, технический прогресс и вера в магию. Официальная цель визита — ратификация договоров, позволяющих провести чёткую линию российско-китайской границы и наладить торговые связи, но главная задача молодого дипломата — вырвать Китай из-под влияния Запада и сделать союзником России на десятилетия вперёд. Увы, мыслями императора Поднебесной империи всецело владеет кровожадная фаворитка Цы Си, и ему нет дела до политики, а китайские вельможи не видят выгоды от союза. Чтобы убедить их, нужно освоить древнюю игру в слова, а меж тем Англия и Франция уже готовы свергнуть императора, и времени на игры остаётся всё меньше.