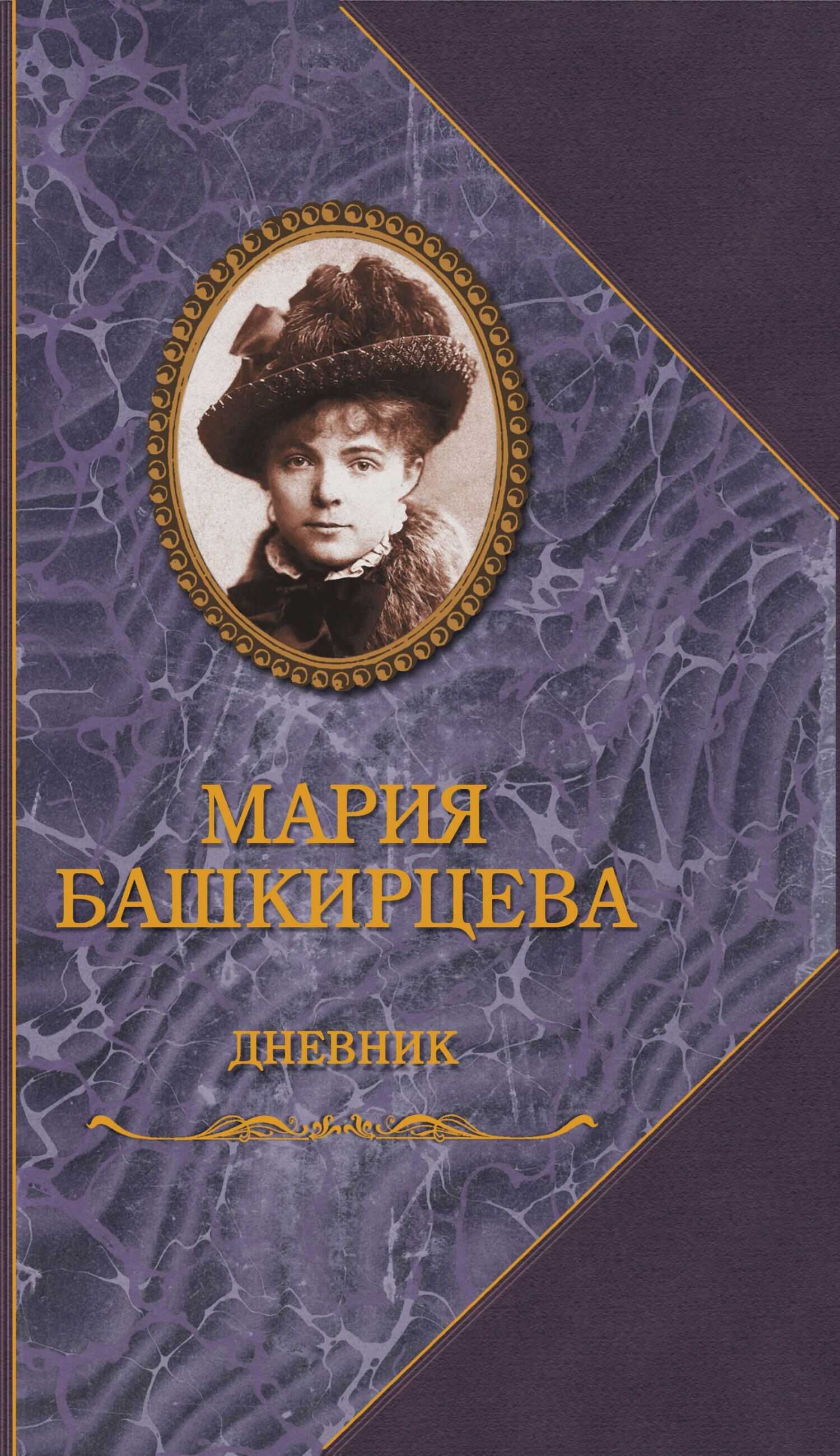Шрифт:
Закладка:
Мария Башкирцева (1860—1884) известна как художница и как писательница. Ее картины выставлены в Третьяковской галерее. Русском музее и в некоторых крупных украинских музеях, а также в музеях Парижа, Ниццы и Амстердама. Как писательница она прославилась своим Дневником, написанным по-французски, изданным посмертно и переведенным на множество европейских языков. Дневник Башкирцева вела беспрерывно, начиная с двенадцатилетнего возраста и до своей ранней смерти, и он является нс только уникальным человеческим документом, но и ценным литературным произведением. Английский премьер-министр того времени сэр Уильям Гладстон назвал его «самой замечательной книгой столетия». Дневник подвергся цензуре матери Башкирцевой, многие его страницы сгорели во время пожара, и нам доступна лишь часть того, что писала Мария. В книге также опубликована переписка Марии Башкирцевой с Гюиде Мопассаном.