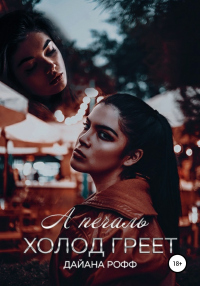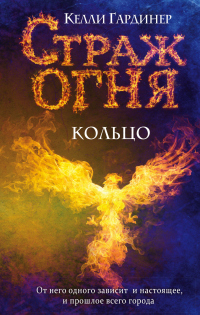Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Заговор с целью уничтожения правящей семьи Аннура далек от завершения. Дочь императора Адер, узнав, кто именно убил отца, приходит в замешательство. Она принимает решение покинуть Рассветный дворец, чтобы найти союзников и бросить вызов тем, кто замыслил свергнуть с трона династию Малкенианов. Немногие доверяют ей, но под покровительством древней богини света Адер удается собрать армию под свои знамена. Тем временем у границы империи собираются несметные полчища воинственных кочевников, с которыми вступает в сговор отступник из элитного боевого подразделения, Валин, брат Адер. Оба они преследуют одну цель – отомстить за смерть отца, однако столкновение между ними кажется неизбежным… Тем временем Каден, законный наследник Нетесаного трона, проникает в столицу Аннурской империи с помощью двух странных спутников. Они обладают особыми знаниями, которые могут спасти Аннур или уничтожить его… «Огненная кровь» – вторая книга трилогии «Хроники Нетесаного трона». Впервые на русском!
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Брайан Стейвли»: