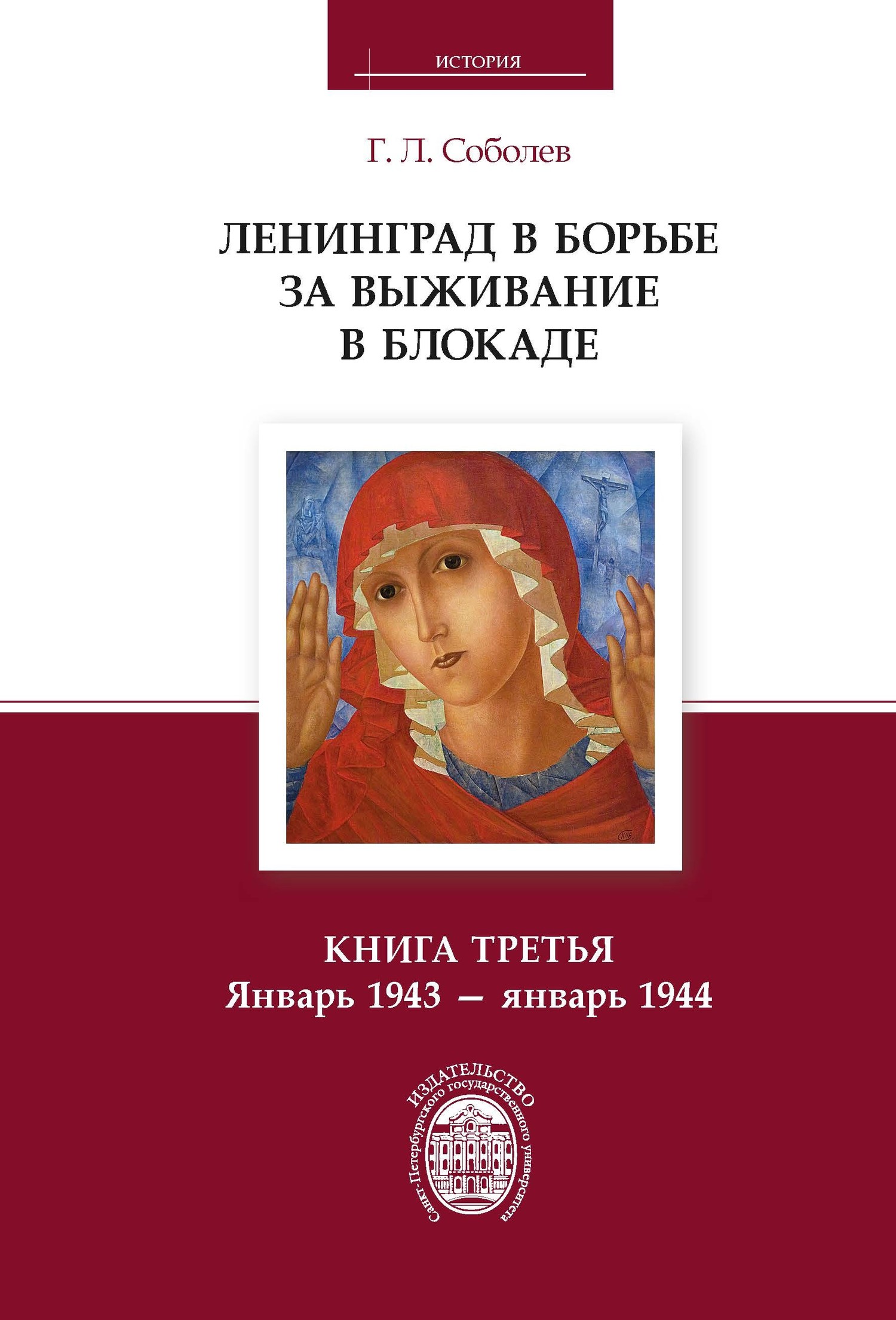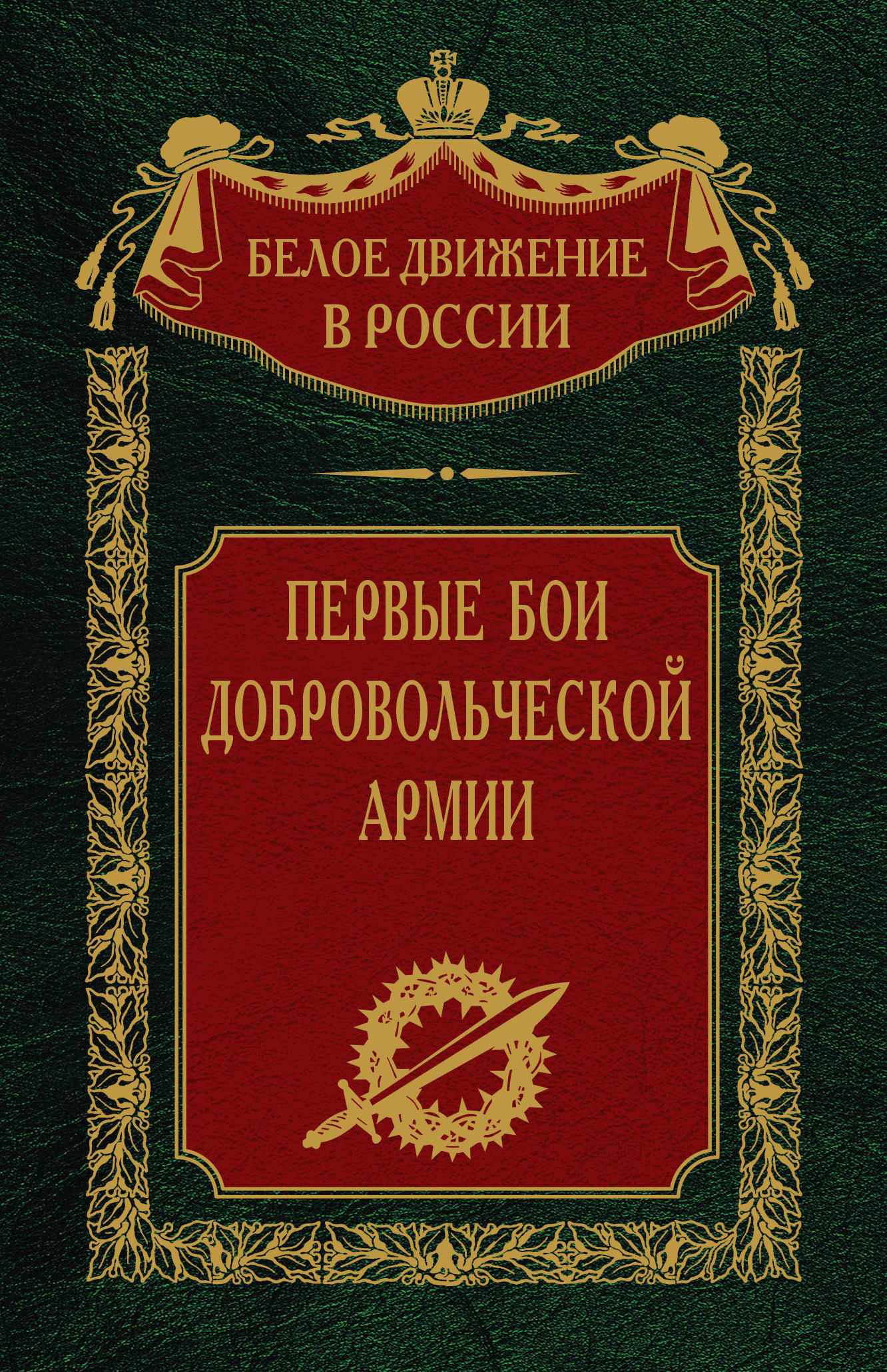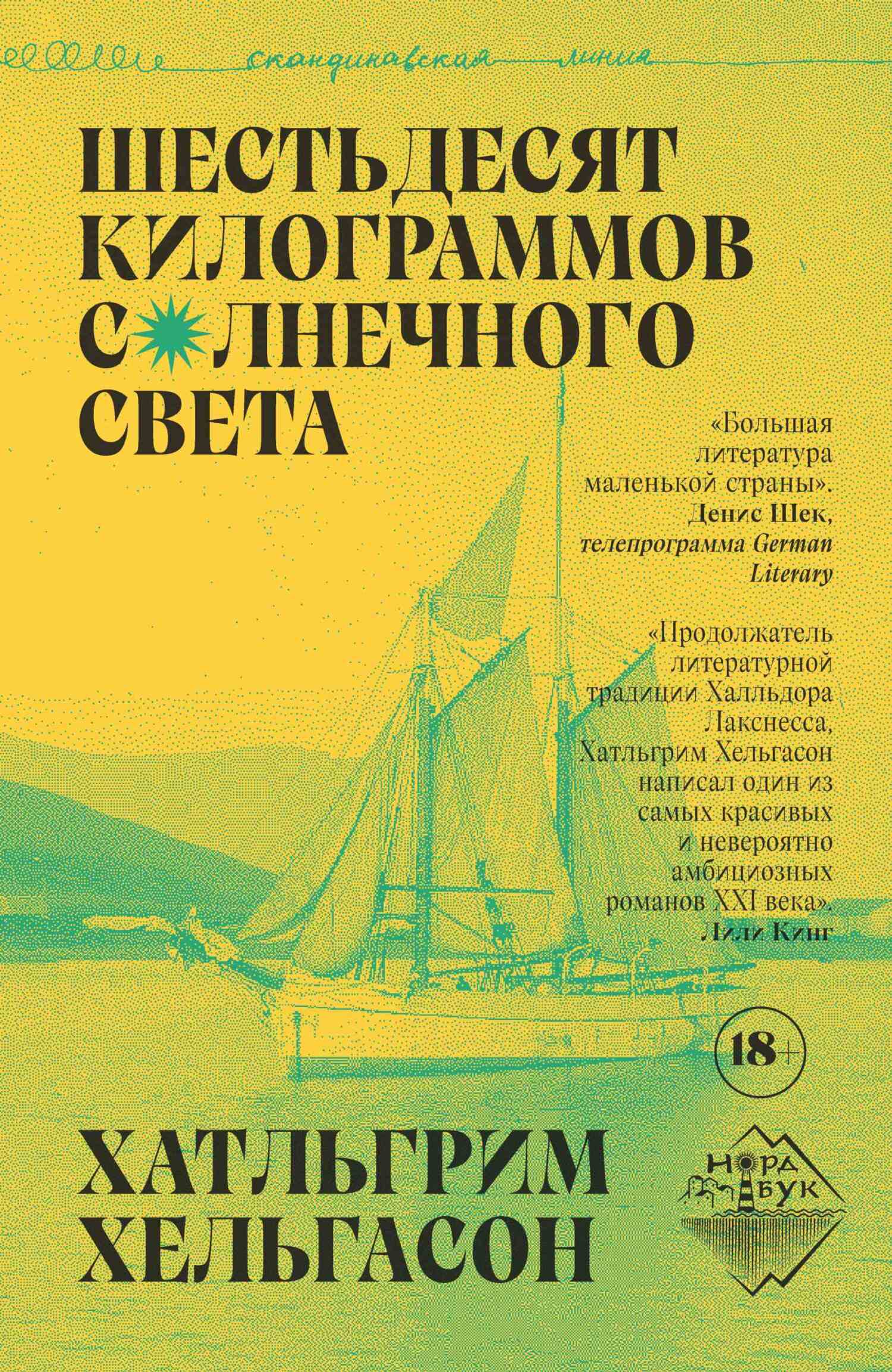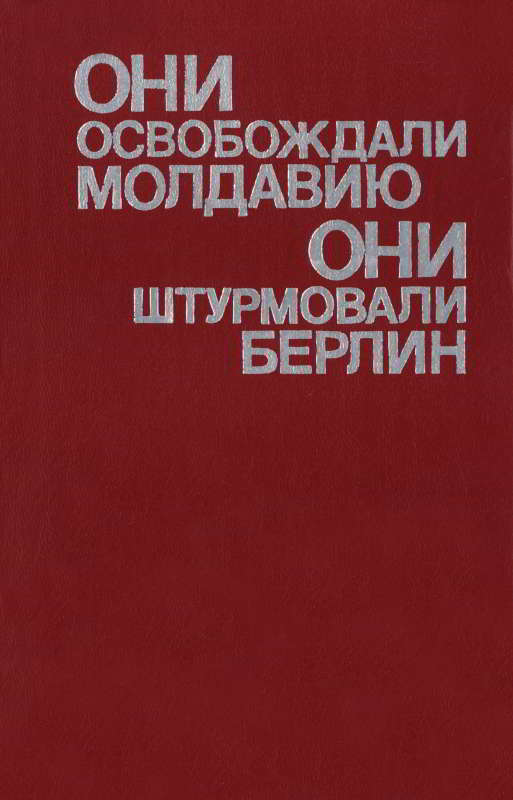Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В книгу входят две повести: «Невская легенда» и «Орешек». Первая из них — о Северной войне, которая дала России выход к морю, вторая посвящена героической обороне Шлиссельбургской крепости в годы Великой Отечественной войны.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Александр Израилевич Вересов»: