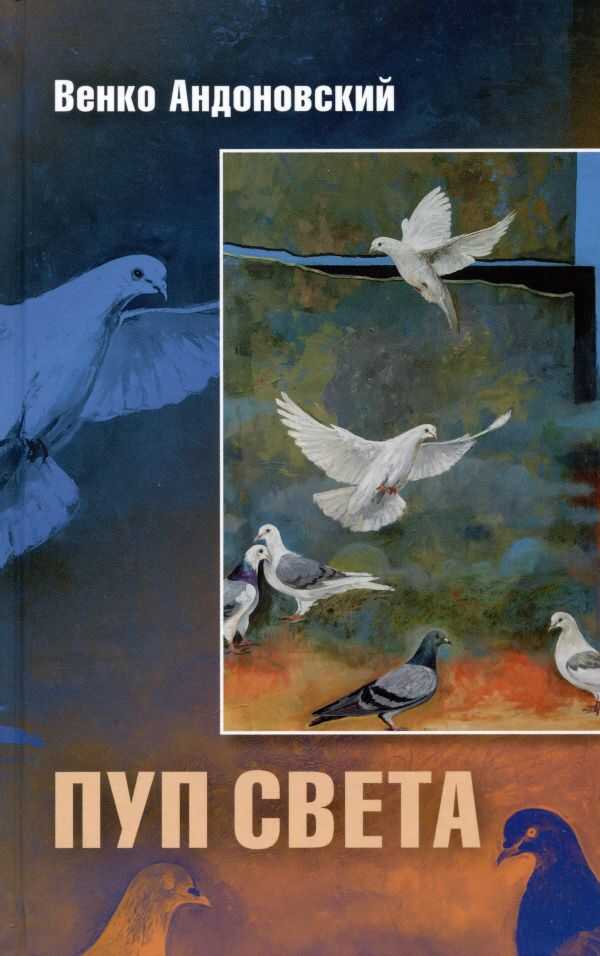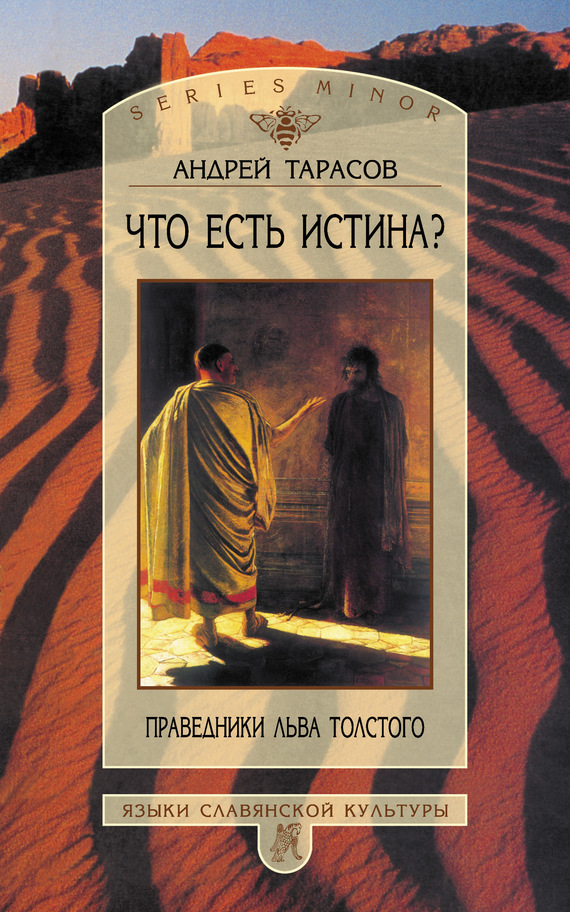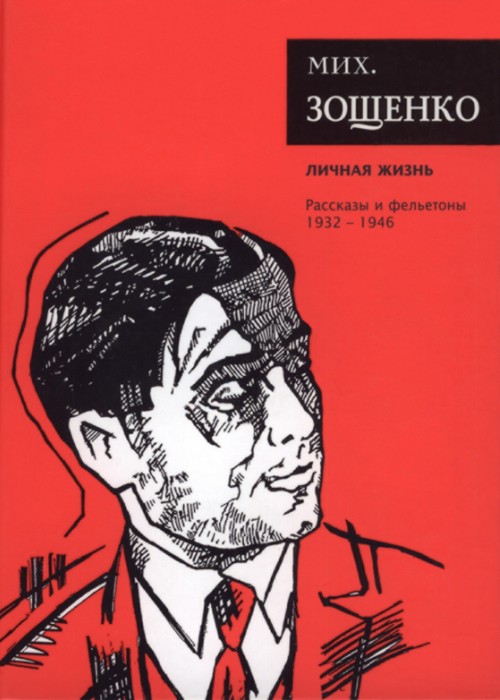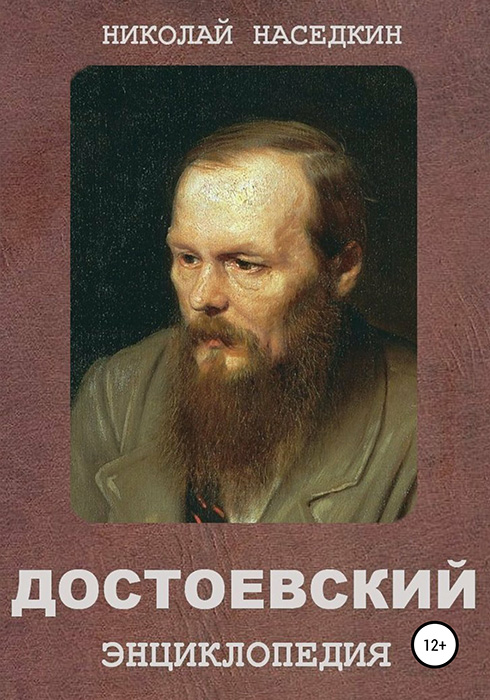Шрифт:
Закладка:
— Я видел, что туристы (теперь и я воспользовался фальшивым словом) всё ещё садились в автобус. Некоторые ещё выпивали на террасе, а некоторые справляли нужду в ближайшем сквере перед заводоуправлением. Я думал, что есть время. А когда понял, что нет, сердцем сделал выбор.
Он еле дождался, когда я договорю:
— Отлично. А это ваше сердце решило накануне вечером избить датчанина перед вашей сторожкой, на вашем рабочем месте?
— Да, но…
— Обвиняемый, отвечайте на вопрос, — призвал судья.
— Да, я его ударил.
При этом прокурор сделал фальшиво-удивлённое выражение лица и сказал:
— Датчанин, как это следует из его заявления и объяснения его сербской подруги, постучал в дверь, чтобы попросить у вас зажигалку. Вместо этого он получил прямой удар в лицо и сломанный нос.
Я уже терял терпение. Я воскликнул, привстав:
— Это неправда! Они попросили меня отдать им на время для секса сторожку, то, что вы называете рабочим местом. Мне предложили 10 евро.
Отец Иаков взял меня за руку и потянул вниз, чтобы я сел. Прокурор сказал:
— В полицейском отчёте об этом не говорится.
— Полиция составила протокол без моего заявления. Я остался дежурить, они с теми двумя пошли в отделение, — объяснил я.
И тут, приняв особенно эффектную театральную позу, прокурор повернулся ко мне спиной, сделал несколько шагов, как бы размышляя, потом вдруг обернулся, как будто забыл спросить меня о чём-то неважном, хотя на самом деле это было самое главное:
— Пусть так. Но правда, что в припадке ненависти той ночью, когда вы безжалостно избили датчанина, держа его за волосы, ударив головой о землю, вы сказали: «Хочешь, чтобы я завтра оставил шлагбаум открытым?»
Змея укусила и, наконец, извергла давно приготовленный яд. Но рядом со мной был мой врач Иаков. Он встал и сказал:
— Замечание! Прокурор разыгрывает карту ненависти. Но ненавидела ли задержанных и полиция? Есть полицейский отчёт о бесчинствах иностранцев: «секс в парке рядом с прохожими, мочеиспускание на памятник героям народно-освободительной борьбы, употребление наркотиков».
Судью явно подкупили, потому что он равнодушно сказал:
— Отклонено. Подсудимый, ответьте на вопрос. Вы угрожали, что намеренно оставите шлагбаум открытым на следующий день?
— Это было в приступе неприязни, — сказал я.
На эту мою фразу прокурор отреагировал как хищник:
— Отлично. И почему вы могли испытывать неприязнь к группе незнакомых вам европейских туристов? Вас разозлило их неприличное поведение той ночью?
— Да, — сказал я, смирившись с тем, что меня снова нокаутируют; я мог только надеяться, что что-то изменится, когда отец Иаков получит слово, чтобы защитить меня.
— Значит, вы видели, как они бесчинствовали и оскверняли памятник? — спросил прокурор, переставляя мяч в удобное положение для гола.
— Да, — ответил я.
Тогда он театрально вынул из портфеля протокол и стал размахивать им в воздухе:
— А почему здесь написано, что на вопрос, видели ли вы, как они буйствуют и буянят, вы ответили — нет?!
Я опустил голову. Я вспомнил, что этой ложью я хотел защитить себя от дальнейших осложнений; поэтому никогда не следует лгать. У истины есть цена — страдание, и она не может победить без жертв. Я взял себя в руки и сказал:
— Знаете, я избегаю осуждать других людей, даже когда они грешат. Меня не интересуют чужие грехи, только мои собственные.
При этом прокурор начал цинично смеяться, повернувшись к присяжным.
— Какое прекрасное христианское воспитание! Ночью он не хочет судить, а на другой день он не опускает шлагбаум и отправляет на потенциальную смерть 45 человек! — Потом сделал нарочитую риторическую паузу и тихо, очень тихо, чтобы все навострили уши и в зале суда воцарилась полная тишина, что свидетельствовало о том, что он мог бы стать отличным актёром, спросил: — Может быть корни вашей ненависти к автобусу туристов имеют какое-то отношение к вашей жизни до того, как вы приехали сюда?
И у меня закружилось в голове. Я снова оказался на склоне, где меня непременно накроет оползень или лавина, похоронит меня заживо, засыплет мне рот сырой землёй!
Пытаясь казаться хладнокровным, я убеждённо сказал:
— Нет. Я никогда не высказывал ненависти к иностранцам. Я космополит, а не ксенофоб.
А он снова открыл портфель и достал знакомую книгу. Прокурор явно тщательно готовился осудить меня, как он сказал, «пожизненно». Он стал читать по книге:
— Цитирую: «Европа сегодня — это обиталище пороков, обезумевшая нацистская банда. Там находится престол дьявольский. Европа — это окраина, которую нужно сровнять с землей, потому что она, как всякий мелкий обыватель проявляет интерес только к двум вещам: к чужим грехам и к своей безгрешности». Это ваш роман? — спросил он, будто не зная ответ.
В зале суда поднялся шум. Я посмотрел: большинству людей фрагмент не понравился, но были и те, кто его одобрил. Пожилой мужчина даже показал мне два пальца: знак победы. Это был небольшой, совершенно второстепенный фрагмент романа, отвергнутый Клаусом Шлане, высказывание одного из персонажей. Роман был опубликован в Македонии за мой счёт за год до того, как я передал его Шлане в переводе.
В этот момент Иаков сделал замечание:
— Господин судья, это слова персонажа книги, а не самого автора. Об этом различии рассказывают в первый год обучения в гимназии. Если одним из действующих лиц вашего романа является Гитлер, это не значит, что вы, как писатель, думаете так же и что вы нацист! Примите меры, ведь это фарс!
Судье нравилось то, что происходило, а то, что происходило, было обычным незнанием того, что есть автор, а что персонаж. Это как если бы слепец критиковал пёструю импрессионистскую картину. Но невежество прокурора могло быть не невежеством, а преднамеренным подлогом. Судья холодно ответил:
— Отклонено. Продолжайте, прокурор.
И когда ему дали разрешение, то стало видно, что аудитория на его стороне, потому что все разом затихли.
— Правда ли, что всемирно известное издательство Галлимар отказало вам в публикации этого романа?
Я разочарованно повесил голову; дело зашло слишком далеко. Откуда он мог это знать? Только кто-то из театра мог видеть эти письма. И мне стало ясно, почему оба конверта были заклеены скотчем; кто-то открыл и прочитал письма.
— Подсудимый, ответьте на вопрос! — прервал меня голос судьи.
— Да, — сказал я.
— Вы были болезненно честолюбивым писателем? — спросил прокурор.
— Да, — сказал я, помолчав. — Я болезненно желал мировой славы. Но не добился её. И тут прокурор сказал, как будто вдруг сбросив бомбу в зале суда:
— А вы раньше убивали кого-нибудь из иностранцев?
Я