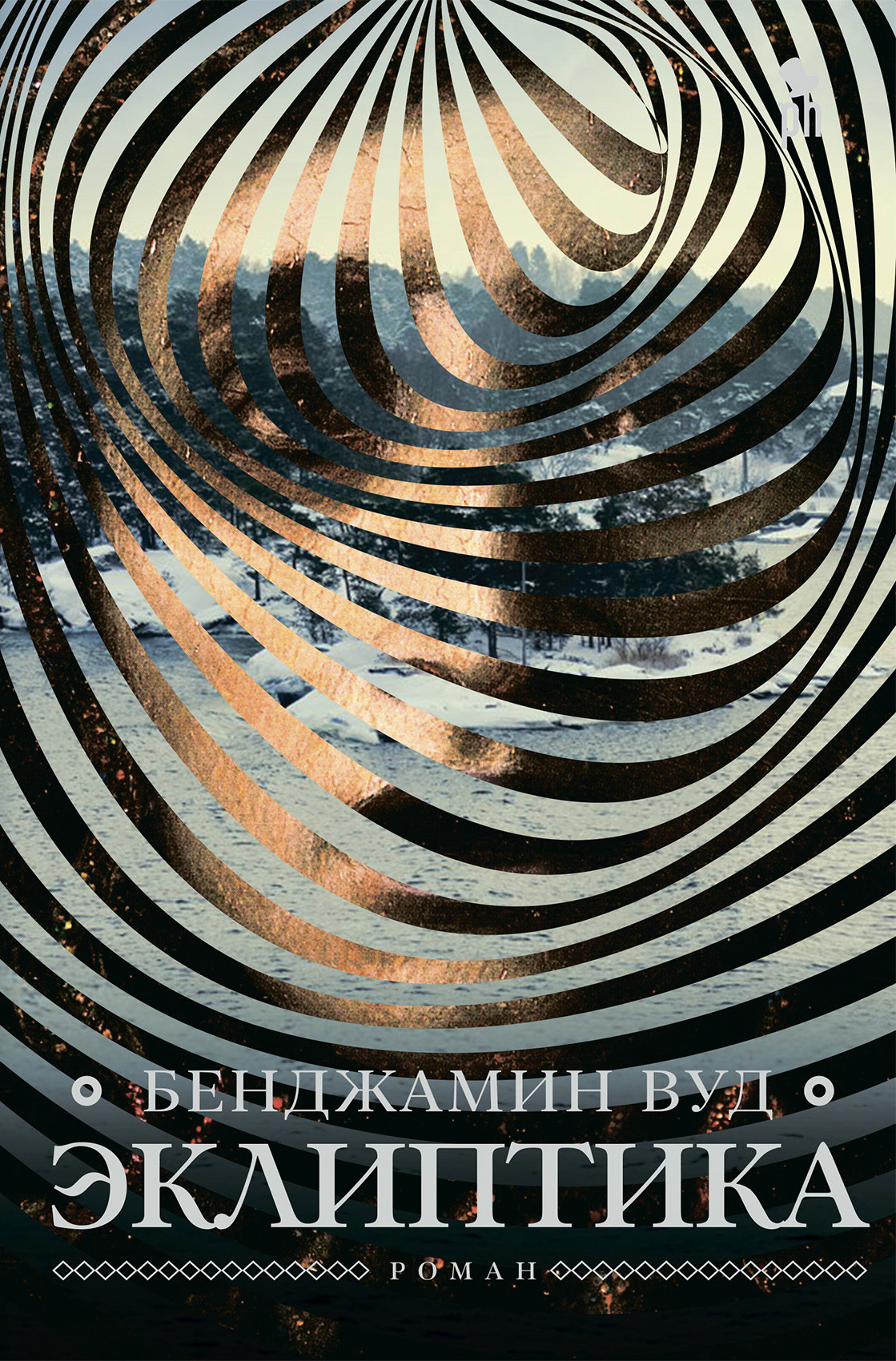Шрифт:
Закладка:
Я неотрывно смотрела на него – на движения его рта.
– Но в итоге он выкарабкался, и я спросил, как ему это удалось. Он принялся торопливо рассказывать, через что он прошел, как он опустился на самое дно, вот это все. Может, он боялся, что вернется жена, и не хотел, чтобы она услышала, но говорил он и правда очень быстро. Не успел я опомниться, как он уже рассказывает об одном месте в Турции. Остров недалеко от Стамбула. Говорит, там что-то вроде санатория для людей искусства. Не колония и не курорт. Прибежище. По его словам, это место, само пребывание там изменило всю его жизнь. Вернуло ему чувство цели. Прояснило мысли.
Звучало как идеал для тех, кто хочет исчезнуть.
– Я посмотрел на него, вот прямо как ты сейчас на меня, и сердце у меня заколотилось. Я понял, что должен попасть на этот остров, где бы он ни был. Во что бы то ни стало. Я спросил, как его найти, но мой друг сказал: “Все не так просто. Есть определенные правила”. “Я готов на все, – говорю. – Только расскажи мне, как туда добраться”. И он рассказал. Он рассказал мне все. А теперь я хочу рассказать тебе, Элли, только слушай внимательно, очень внимательно, потому что повторить я уже не смогу.
* * *
Ждем у телефонной будки на улице Ласса. Ждем, когда зазвонит телефон. Джим хотел, чтобы я вернулась в постель, но я не могла спать ни секундой дольше. Я подкрепилась, и меня уже не шатало. Мы сидели под фонарем, наполовину в лужице света. Дорога пустая. В темноте стелется серый дым, ряд домиков, отошедших ко сну. Джим уже набрал номер и поговорил с посредником.
– Хорошо, мы будем рядом, – сказал он и продиктовал телефон нашей будки. – Неважно, насколько поздно. Мы готовы ждать. Если не услышим от вас через пару часов, придется… А, хорошо, спасибо.
Прошла уже целая вечность.
Мы сидели на бордюре и бросали камни, точно дети, играющие в переулке.
– Ни о чем не беспокойся, – говорил Джим. – Поначалу будет трудно, но, поверь, со временем все наладится. Первые пару месяцев я вообще почти не писал. Просто пытался привыкнуть к обстановке. И это нормально – не бойся терять время. Впитывай новые впечатления, дай им улечься. В конце концов ты в себе разберешься. Почаще поднимайся на крышу особняка. Там все видится особенно ясно. По весне расцветают иудины деревья – с этим зрелищем не сравнится ничто на свете. Их видно даже на соседних островах. Когда будешь смотреть на них, вспоминай обо мне, вспоминай этот миг, ладно? Потому что там главное не затосковать. С кем-то из постояльцев ты поладишь, с кем-то – не очень, но важно не поддаваться одиночеству. Я видел, как такое случается… (Зазвонил телефон.) Это оно. – Джим отряхнул ладони. Открыл заржавелую дверцу, зашел внутрь. Взглянул на меня с улыбкой. Снял трубку. – Да? – Кивок, кивок, еще один. – Спасибо, сэр, да. У меня все хорошо. Работа кипит. Да и картины продаются, а это хлеб. – Пауза. Кивок. – Несомненно, сэр, да. – Жеманный смешок, какого я от него в жизни не слышала. Странный ореол формальности. – Конечно-конечно. Что ж, не буду вас задерживать. Хорошие новости я передам. И спасибо еще раз за… Но я правда очень благодарен. – Снова этот смешок. – Да, сэр, обязательно. Hoşçakal.
Третья из четырех. Коридоры превосходят
1
Лодка вышла из залива на девять гребков и все уменьшалась. С вершины утеса надрывавшийся на веслах Эндер был едва различим, спина бугром против мороси, вокруг плещутся серые волны. С каждым взмахом весел лодка продвигалась вперед лишь на дюйм. Будь мы поблизости, вероятно, услышали бы, как старик жалуется на ноющие кости Ардаку, стоящему на корме. Эти двое полдня готовили тело: заворачивали, утяжеляли, несли на плечах по лесистому склону. Но какие слова звучали там, на лодке, что они чувствовали, исполняя от нашего лица этот страшный долг, мы не знали. Мы могли лишь догадываться – по почтительной праздности в движениях гребца, по бесхитростности, с какой они сбросили труп в воду.
Было это так:
Еще двадцать взмахов – и Эндер перестал грести, положил весла на дно лодки. Ардак перешагнул через скамейку. Он взялся за труп с одного конца, а старик – с другого. Лодка покачнулась. Похоже, они условились досчитать до трех; протащив тело по доскам, они с размаху водрузили его на бортик. Пару мгновений оно лежало там – бесформенное, завернутое в дешевый турецкий ковер, обмотанное черным целлофаном, перетянутое, как боксерская перчатка. Ардаку пришлось отклониться назад, чтобы лодка не перевернулась. Они коротко переговорили, руки уперты в бока, и столкнули тело за борт. Оно было так нагружено шлакоблоками, что сразу пошло ко дну, а потом вдруг лодка заходила ходуном, и старик покачнулся; Ардак схватил его за рукав. Восстановив равновесие, оба сели. Мгновение мы смотрели, как они качаются на волнах Мраморного моря безо всякой причины.
Затем директор затянул прощальную речь.
– Сегодня у меня нет для вас вдохновляющих слов, – раздался поверх ветра его голос. – Я надеялся, что сочиню несколько строк, способных выразить, сколь важна была эта утраченная жизнь, но ничего не вышло, и мне перед вами стыдно. Еще вчера среди нас был великий юный талант, а сегодня мы похоронили его. Никакие слова не опишут глубину нашего горя. О том, что такая трагедия произошла в мою бытность директором, я буду сожалеть до конца дней.
Некоторое время он молчал, колупая тростью землю.
Все гости Портмантла стояли на юго-восточном утесе и глядели в море. Со стороны казалось, будто директор обращается ко всей толпе, но мы знали, что его слова предназначены только нам четверым. В его голосе была почтительная отстраненность, намек на извинение.
– Столь темный день не сулит никаких благ, – продолжал он. – И все же – это пришло мне в голову только сейчас – мы можем извлечь из него урок.
Проповедовал он с каменистого холмика, полы длинного черного пальто развевались на ветру. Краткосрочники обступили его полукругом, но мы держались поодаль: Маккинни обнимала меня за плечи, Куикмен сидел на корточках и гладил собаку, а Петтифер нависал над ним с зонтиком, как неумелый лакей. Чуть примяв кружевные сорняки, я стояла на краю обрыва и смотрела на волны, впитывала их мерный ритм и вскоре уже чувствовала, как они разбиваются о берег, даже не вслушиваясь.
– Ибо в подобные времена мы обращаемся за утешением именно к вам, художникам… (Вшух.) Поэты и писатели в наших библиотеках… (Вшух.) Картины у нас на стенах, музыка. (Вшух.) Только искусство способно охарактеризовать смерть. Вот и все (вшух), что мы можем извлечь из этого несчастья. (Вшух.) Ибо все великие творения созданы для тех, кто остался. Для тех (вшух), кто страдает из-за смерти и не может ее постичь. Мне больше нечего добавить, кроме… (Вшух.) За Фуллертона! Покойся