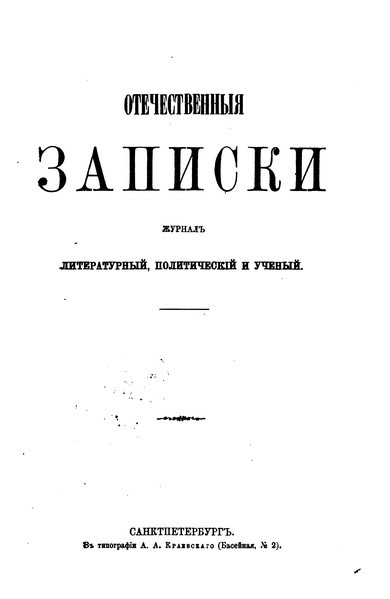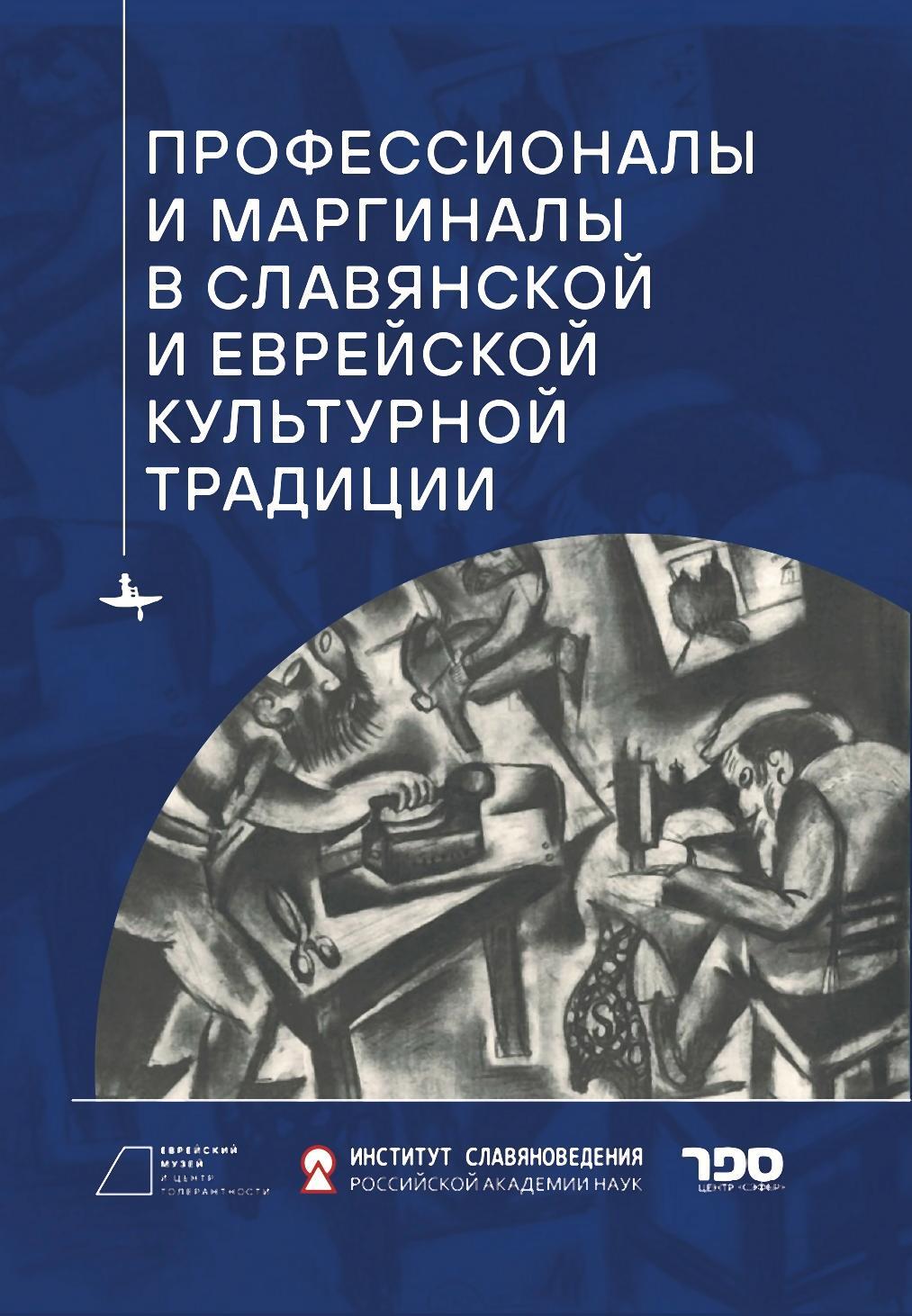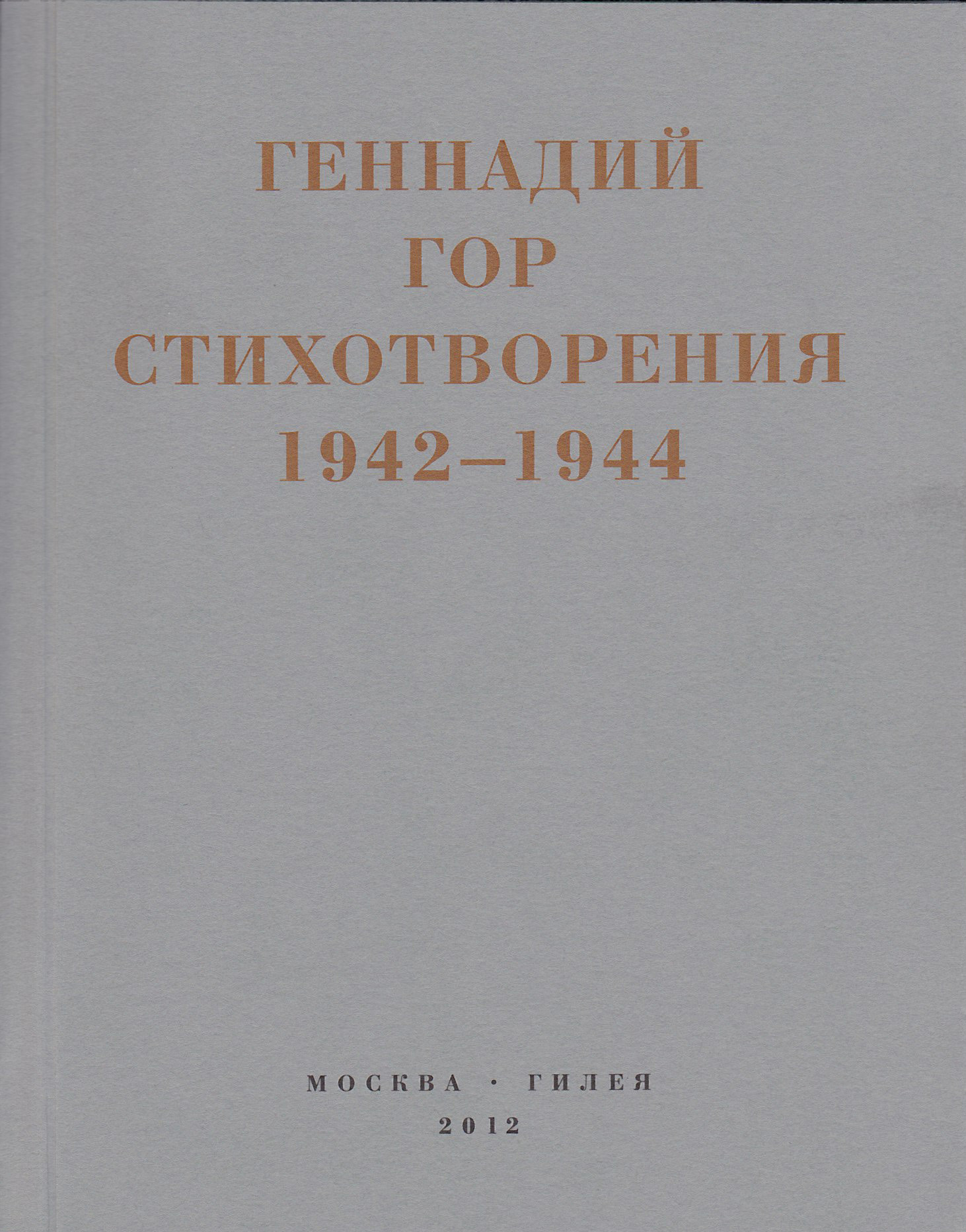Шрифт:
Закладка:
«Записки еврея» Григория Богрова — самое известное и одновременно самое скандальное его художественное и публицистическое произведение. Эта автобиографическая книга была издана впервые Н.А.Некрасовым в журнале «Отечественные записки» в номерах за 1871–1873 г.г. и имела большой общественный резонанс. Произведение вызывало болезненную реакцию у евреев-ортодоксов, сохранявших верность традициям и религии предков, поскольку автор вынес на всеобщее обозрение весьма неприятные и теневые стороны жизни еврейских общин, раскрыв суть семейного конфликта с общиной. Книга весьма ценна тем, что наполнена колоритными сюжетами повседневной жизни хасидских местечек Николаевской эпохи, юридическими казусами, объяснявшими сложившиеся гротескные реалии отношений хасидов с внешним миром и внутри своего замкнутого общества, психологическими и этнографическими деталями, необыкновенно точными наблюдениями за внешним бытом и внутренним миром героев. Она стала своеобразным окном в закрытый традиционный еврейский мир для русскоязычных читателей больших городов, не знавших о нем ровным счетом ничего.
Текст издания: журнал «Отечественныя Записки», №№ 1–5, 8, 12, 1871, №№ 7–8, 11–12, 1872, №№ 3–6, 1873.