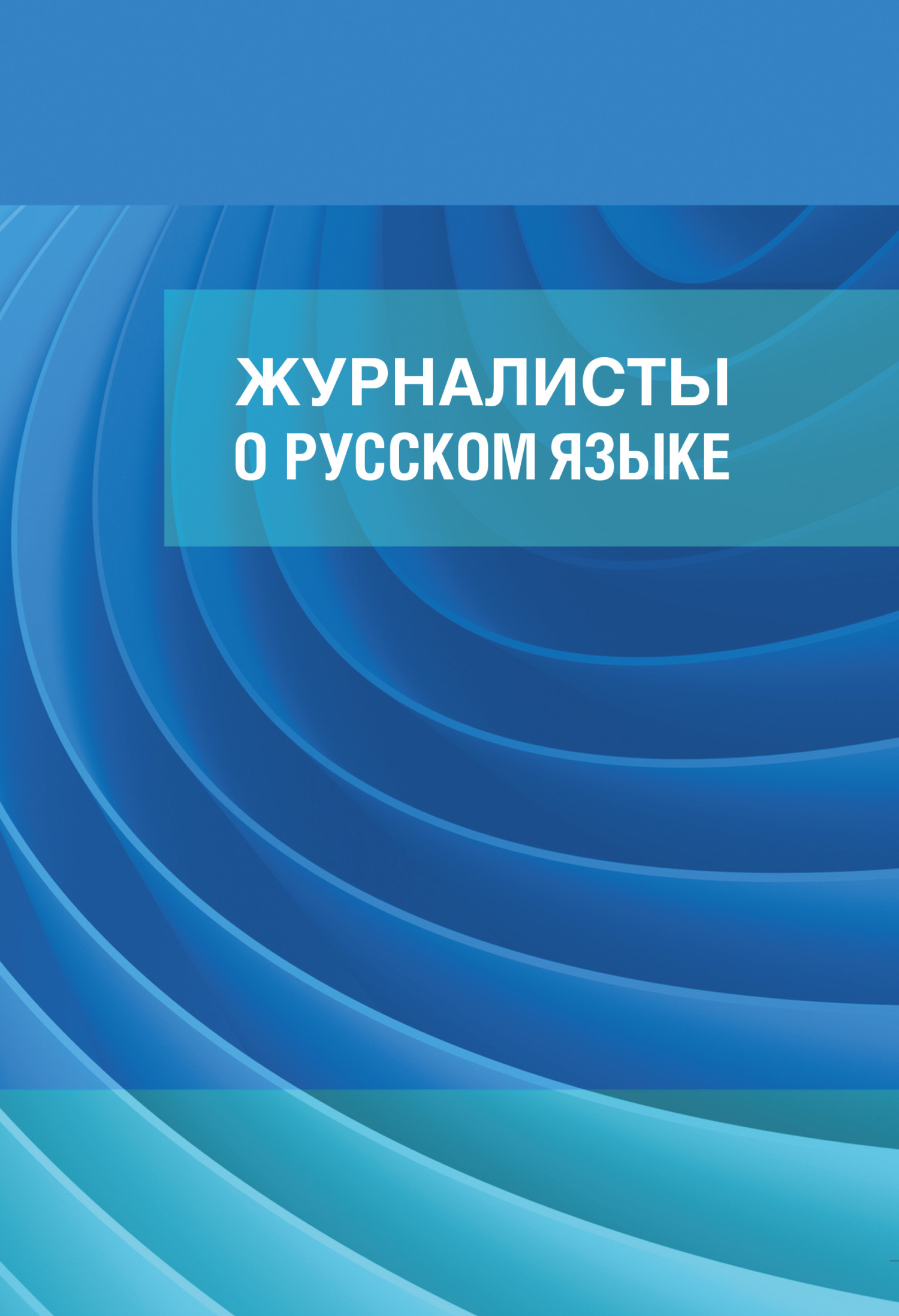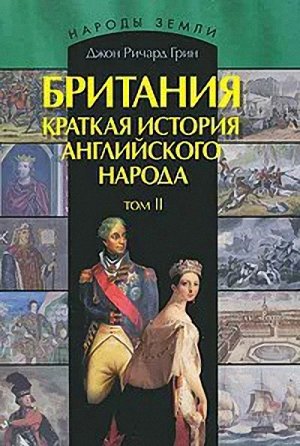Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Роман переносит читателя в Иран XVI века. Джавахир добровольно становится евнухом, ведь только так он может попасть на службу во дворец и узнать тайну смерти своего отца. Он служит дочери шаха, царевне Перихан-ханум, наделенной не только красотой и изысканным вкусом, но и государственным умом, волей и жаждой власти. Когда шах умирает, в столице разгорается жестокая борьба за трон между ней и ее братьями… Дворцовые тайны и интриги, убийства и предательства, любовь и ненависть ждут читателя на страницах знаменитого романа Аниты Амирезвани.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Анита Амирезвани»: