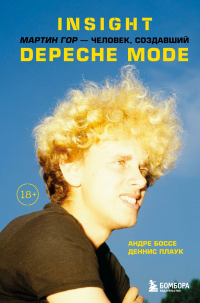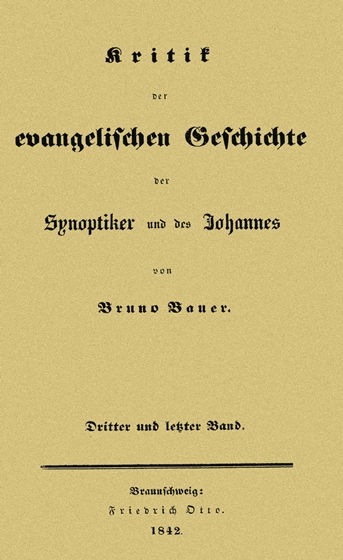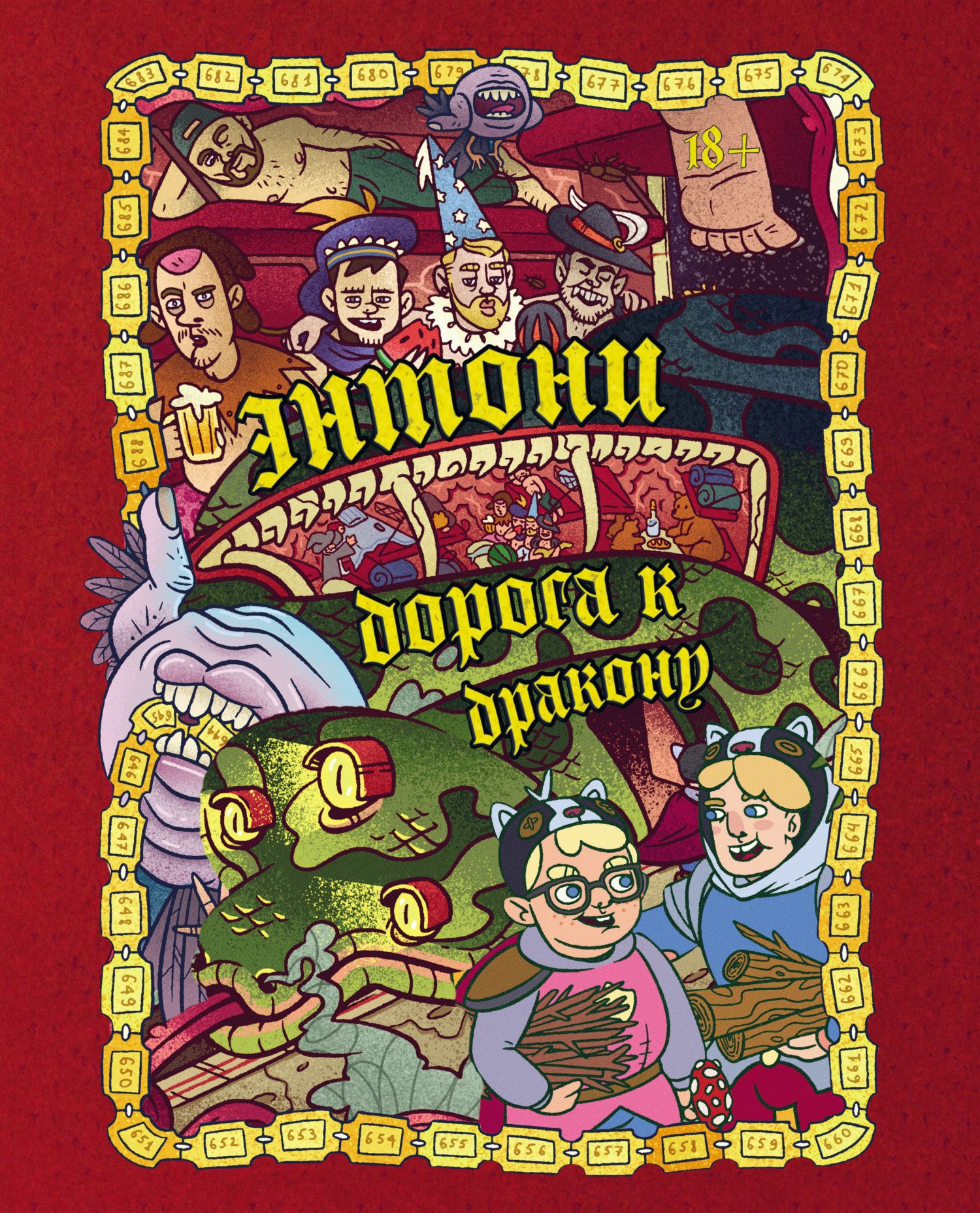Шрифт:
Закладка:
Потрясающее вампирское фэнтези, мрачное и чарующее.Существует ли вечная любовь? Между ними – два столетия и тайны древнего рода. Из собственных эгоистичных побуждений Эдгар сделал Лауру вампиром, не предоставив ей выбора. Но чем это для него обернется?Каково это – провести жизнь как во сне, чтобы в девятнадцать лет быть обращенной в вампира незнакомцем, загадочным и неотразимым? Кто он и что скрывает? Реальность оказывается страшнее, чем ночной кошмар, а любовь – отравленной. Лауре предстоит узнать темные секреты далекого прошлого и овладеть магическими силами. Сможет ли она принять свое предназначение и при этом не утратить себя?«"Полнолуние" – это написанная богатым, красивым языком готическая история о вечной любви в духе викторианских романов, с затягивающим сюжетом и уникальным авторским переосмыслением мифа о вампирах.Написанный с исторической достоверностью, роман переносит читателя в разные эпохи, помогая одиноким героям обрести долгожданный покой и обрести настоящую любовь». – lifestyle-блогер @ollys_books